Трофим Ломакин
(литературная запись В.Викторова)
Путь штангиста
Посвящаю эту книгу моему другу,
чемпиону мира,
заслуженному мастеру спорта СССР
Аркадию Никитовичу Воробьёву
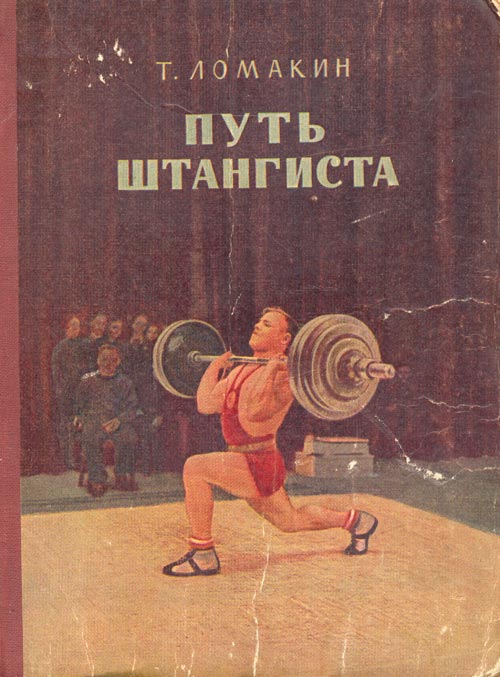
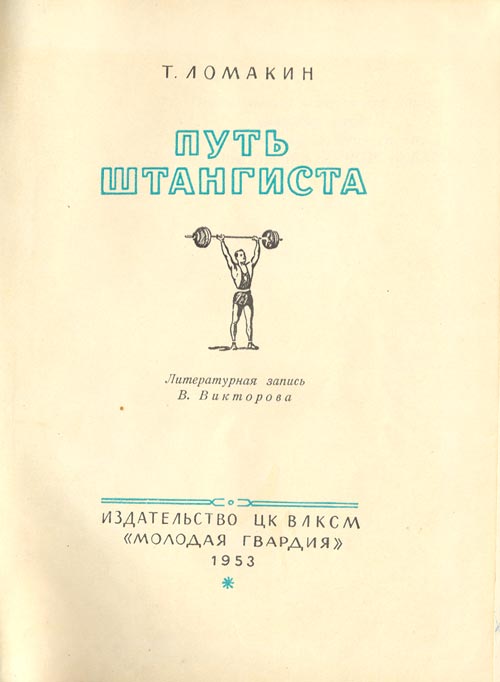
От автора
События, описанные в данной книге, охватывают
небольшой срок — всего семь лет. Именно за
семь лет я и Аркадий Воробьёв, два мало кому
известных паренька, прошли путь от
физкультурников-новичков до заслуженных мастеров
спорта. Но за этими немногими годами стоят
десятилетия славной истории российской тяжёлой
атлетики, давшей миру знаменитых силачей,
прославивших свою Родину. Нам было у кого
учиться, нам было с кого брать пример.
Разве смогли бы мы так быстро добиться успеха,
не имея за плечами школы отечественной тяжёлой
атлетики, опыта наших старших товарищей,
преемников славных традиций этой школы?
Когда я задаю себе этот вопрос, то тут же
вспоминаю Александра Васильевича Бухарова,
"дядю Сашу", как любовно и почтительно называли
все мы старейшего русского атлета; я вижу перед
собой могучую фигуру Якова Григорьевича Куценко
— замечательного спортсмена, коммуниста,
неизменного парторга нашей команды; Николая
Ивановича Шатова — первого советского
рекордсмена мира, показавшего всем нам, молодым
спортсменам, путь к высшим достижениям;
Александра Ивановича Божко — первого
заслуженного мастера спорта, с которым мне
довелось вести борьбу; Николая Ивановича Лучкина
— тренера моего друга и самого опасного
соперника в спорте Аркадия Воробьёва; моих
тренеров Алексея Михайловича Жижина и Израиля
Бенционовича Механика. И я отвечаю себе: нет,
не смогли бы. Наш путь — это только отрезок
того большого пути, который прошли
тяжелоатлеты России и Советского Союза.
Первый шаг
Весну 1947 года я встречал в одном из городов
Дальнего Востока, где каждый кусочек земли,
овеваемой ветрами Тихого океана, напоминал
нам, солдатам Советской Армии, о славной
победе, одержанной здесь во время Великой
Отечественной войны.
Полк, в котором я служил, в годы войны входил
в состав частей Советской Армии, первыми
нанёсших удар по японцам. Громя их
квантунскую группировку, мы прошли через всю
Маньчжурию, завершая ту войну, которая
началась в 1941 году вторжением
гитлеровских полчищ в западные пределы Советского
государства.
После войны командование послало меня,
пехотинца, в военную школу учиться на мастера
по авиационным приборам. Закончив учёбу, я,
младший сержант, был направлен снова на
Дальний Восток.
Я быстро сдружился с новыми товарищами,
полюбил просторы аэродрома, чёткий ритм
авиационной жизни, смелых и сильных людей
— лётчиков. Но вот беда: в свободное от
службы время я чувствовал себя одиноким.
Все мои товарищи — старший сержант Анатолий
Джогут, радист Дмитрии Холуянов, старший
сержант-оружейник Юрий Илиневич, сержант
Николай Голубцов — с увлечением занимались
спортом. Для меня же слово "спорт" было
пустым звуком. Я не ходил на соревнования и
ни разу в жизни не переступал порога
спортивного зала.
С удивлением смотрел я на товарищей, которые
после напряжённого трудового дня, вместо
того чтобы отдохнуть, погулять, хватали
чемоданчики и убегали на тренировку. Слово
"тренировка" для меня почему-то связывалось
с чем-то тяжёлым, тянущим плечи, как
груз в часы долгого похода, когда пыль смешивается
с потом, когда хочется пить и страстно
мечтаешь только об одном: о привале.
— Куда вы торопитесь? — говорил я товарищам.
— Ведь с раннего утра на ногах. Передохнули
бы, а потом пошли в кино или посидели
в парке.
Но товарищи только усмехались и уходили,
оставляя меня одного.
Так уж сложилась моя жизнь, что ни в детстве,
ни в юности я не занимался спортом. Правда,
в армии мне приходилось посещать занятия
по физической подготовке, но это была только
часть воинской учёбы, как стрельба, как марши.
И упражнения на турнике во дворе казармы, и
метание гранаты, и преодоление полосы
препятствий никак не связывались в моём
сознании со словом "спорт". То, что мои
товарищи сами, добровольно в свободное время
занимались физкультурой, поражало меня. А их,
в свою очередь, поражало моё полнейшее
равнодушие к спорту.
Каждый из товарищей пытался увлечь меня.
Джогут убеждал, что я прирождённый центральный
защитник футбольной команды. Холуянов
говорил, что я законченный метатель и мне
нужно только взять в руки молот, чтобы стать
мировым рекордсменом. Илиневич клялся, что
мне уготовлена судьба чемпиона по
гимнастике, а Голубцов брался подготовить
из меня за одну зиму непобедимого лыжника.
В конце концов, убедившись в том, что никто
из них в одиночку сделать со мной ничего не
сможет, все мои товарищи объединились и
как-то раз вытащили меня на футбол. Затем на
Спартакиаде я метнул гранату на 66 метров,
а после этого меня уговорили испытать свои
силы, подняв ось вагонетки. Эта самодельная
штанга лежала на спортивной площадке около
нашей казармы, и там обычно собирались в
свободный час главные силачи полка. Ось
вагонетки весила около 90 кг, и
все были очень удивлены, когда я легко, без
видимых усилий поднял её на выпрямленные
кверху руки.
Вот тогда-то и вступил в "заговор" моих
товарищей физрук нашего полка лейтенант Орлов.
Он стал убеждать меня в том, что я рождён
быть штангистом, что мне надо обязательно
встретиться с майором Игумновым. Но я в
ответ только пожал плечами. Ну, если
поднимание тяжестей тоже спорт, тогда я и
без майора Игумнова могу считать себя
чемпионом. Столько тяжестей, сколько
пришлось перетаскать мне, не поднимал,
наверное, ни один прославленный штангист
мира.
Я уже забыл об этом разговоре с физруком,
когда однажды августовским вечером Юрий
Илиневич, собираясь на очередную
тренировку, стал уговаривать меня пойти
вместе с ним.
— Там сегодня ещё и майор Игумнов
занимается, — сказал он как бы мимоходом.
И вот я переступил порог спортивного зала,
окинул его взглядом, увидел взлетевшего
ласточкой к потолку стройного гимнаста,
выполнявшего упражнения на кольцах, а в
стороне, у стены, сразу же заметил
деревянный помост, окружённый группой
широкоплечих людей. Посреди помоста стоял
человек, затянутый в красное трико, со
штангой в выпрямленных над головой руках.
Я подошёл к помосту и стал в сторонке.
Нет, это была не вагонеточная ось, с
которой упражнялись в свободную минуту мои
товарищи, а настоящая штанга — на длинный
стальной стержень с обоих концов были
надеты большие железные диски.
Когда человек в красном трико опустил
штангу, Илиневич подошёл к нему и негромко,
но так, что я услышал, сказал: "Привёл,
товарищ майор", и я понял, что речь идёт
обо мне и что человек в красном трико и
есть Игумнов. А тот посмотрел в мою сторону
и кивнул:
— Ну-ка, младший сержант, снимай ремень.
Испытай свою силушку. Восемьдесят
килограммов выжмешь?
Я улыбнулся. Подумаешь, восемьдесят
килограммов! Мне ведь приходилось таскать
стокилограммовые кули с сахаром, ворочать
многопудовые гранитные глыбы. Сняв ремень,
я подошёл к штанге и легко поднял её. Все
стоявшие вокруг переглянулись.
— А восемьдесят пять возьмёшь? — задорно
спросил Игумнов.
— С вами вместе, товарищ майор, — ответил
я, расхрабрившись.
Все рассмеялись. А когда я поднял и
восемьдесят пять килограммов, и сто, и
сто пять, Игумнов перестал улыбаться и
сказал мне:
— Ну вот что. Если будешь заниматься, то
станешь отличным спортсменом. Понял?
Приходи на следующую тренировку.
Но на следующую тренировку я не пришёл. На
другое утро после посещения спортивного
зала мне с трудом удалось подняться с
постели. Ныло всё тело — спина, руки, ноги,
— будто это не штангу, а меня самого
швыряли вчера на пол. Товарищи, глядя на
меня, только посмеивались, а я, не в силах
скрыть боли, злился и давал себе слово
никогда больше не брать в руки штангу.
"Достаточно я перетаскал за свою короткую
жизнь тяжестей, — говорил я себе, —
достаточно потрудился с лопатой и кайлом.
С меня хватит."
Напрасны были все попытки, все ухищрения
Илиневича снова заманить меня в спортивный
зал. В ответ я твердил ему только одно:
"С меня хватит!"
Но спустя неделю, в то время, когда я
работал в самолёте, проверяя приборы, за
мной прибежал дежурный.
— Младший сержант Ломакин, к командиру
полка.
Командир встретил меня грозно.
— Вы почему на тренировки не ходите? —
спросил он меня. — Особого приглашения
ждёте? Майор Игумнов мне тут все телефоны
оборвал.
Я стоял, не зная, что и ответить.
— Завтра в восемнадцать ноль-ноль быть на
занятиях. Можете идти, — произнёс командир
полка и вдруг, посмотрев мне в глаза и
увидев моё хмурое, сердитое лицо, внезапно
рассмеялся и добавил: — Ну чего насупились?
У вас ведь, говорят, большие способности.
Можете на всю страну прославиться и страну
нашу прославить на весь мир. Это понимать
надо. Майор Игумнов всё твердит, будто вы
самородок редкой величины.
Тут-то я и не выдержал.
— У меня эти самородки вот уже где сидят, —
сказал я, в сердцах хлопая себя по шее.
— С детства только о них и слышал, сколько
из-за них натерпелся, и вот,
пожалуйте: сам, оказывается, самородком
стал.
Командир с недоумением смотрел на меня.
— Что-то я не пойму, о чём вы ведёте речь,
— сказал он. — Садитесь, рассказывайте.
И вот что я рассказал командиру полка.
Ломакины испокон веков жили на Алтае, и все
они — и мой прадед, и дед, и отец — были
старателями. То есть все они добывали
золото. Наши места для этой работы самые
подходящие. Алтайские горы таят в своих
недрах много богатств. Село Никольское, где
я вырос, раскинулось на берегу реки Баранча.
Жители нашей деревни хлеб не сеяли — искали
золото. Для этого и далеко ходить не надо
было. Помню, я ещё мальчишкой таскал отцу
обед на прииск — всего полтора километра
от дома. Так что первые мои детские
воспоминания связаны с золотом, с разговорами
о нём. А по вечерам на щербатом столе отец
раскладывал "капсюли" — так назывались
маленькие пакетики из бумаги, в которых он
приносил намытое золотишко.
Когда я немного подрос, то стал помогать
отцу. Недаром у нас говорят — "мыть"
золото. Вся работа золотоискателя связана
с водой и проходит на берегу ручьёв и речек.
Старшие вскрывали пласт, добирались до
золотоносного слоя, а мы, мальчишки, на
лотке промывали песок и смотрели, не блеснёт
ли на его поверхности золотая солнечная
искорка. Если добудешь три-четыре "значка"
— золотинки, уже чувствуешь себя героем.
Так мы и трудились всей семьёй — мой дед
Трофим Фёдорович, отец Фёдор Трофимович, и я,
маленький Трофим (у нас в семье все мальчики
нарекались только Фёдорами и Трофимами).
Работником я стал рано. Изучил старательское
дело: как жилу искать, как бить шурфы, как
гнать лаву (так на Алтае называется разрез
открытой выработки).
Старатели моют золото круглый год — и зимой,
и летом. Но я зимой с отцом не работал. В
школе учился. Отец у меня был не очень
грамотный, но ученье уважал и дружил с
сельским учителем Василием Ивановичем
Кузнецовым.
Папаша у меня был здоровенным: в кулачных
боях главным, и я, видимо, в него пошёл, а
может быть, от работы рано раздался в плечах.
Как мне, бывало, хотелось летним днём сбегать
на речку и выкупаться, земляники собрать,
кислицей полакомиться, смородиной, рыбу
половить — у нас в реке рыбы было много:
вьюнов, хариусов, пескарей... Но времени
на это не хватало. Надо было помогать
отцу: валить в колоду песок, шуровать его
гребком, работать на грохоте. А часто мы
надолго уходили из дому, искали новые жилы,
по неделям жили в лесу.
В 1939 году я окончил школу, а было мне
тогда пятнадцать лет. Тут вернулся с
якутских приисков мой сводный брат
Александр. Про Якутию он рассказывал просто
какие-то чудеса. Морозы, вечная мерзлота —
а люди в недра земли пробиваются, в шахтах
золото добывают. И вот мы с братом задумали
уехать в Якутию. Отец к этому времени умер,
да и дома после рассказов брата мне стало
как-то тесно и скучно.
Мы доехали сначала до Бийска, потом до
Иркутска, там сели на пароход и поплыли
вниз по Ангаре.
До Заярска добирались трое суток. Затем
поехали на машинах в Усть-Кут и дальше, на
реку Лена. Кругом только и слышались
разговоры о старательской работе. Кто ехал
на Бодайбо, кто на Алдан, а мы решили
добираться до Ыныкчана, за Якутск.
Семь дней мы плыли по Лене до Якутска, а
там в ожидании парохода, который должен
был везти нас дальше, устроились грузчиками
в порт. Таскали на баржу провиант, мешки,
бочки. Наконец двинулись на Усть-Аллах.
Кругом была тайга и болота. Река Аллах
быстрая, порожистая. Течением лодки
разбивало. От Усть-Аллаха шли пешком.
Триста километров глухой тайгой, тропами.
За весь путь встретился нам лишь один
прииск "Светлый". Мы ночевали в домиках,
построенных в тайге специально для
путников.
Так наконец добрались мы до Аллах-Юня,
где находилось управление приисками. Там
снова сели на лодку и спустились по
Аллаху до Усть-Ыныкчана. Вот какой путь
пришлось проделать мне, пятнадцатилетнему
алтайскому пареньку, прежде чем я начал
работать на прииске Верхний Ыныкчан.
Я привык к трудной жизни на Алтае, но здесь
мне работа показалась в десять раз тяжелее.
Суровые места и люди суровые. Для начала я
пошёл по баракам, по бригадам искать себе
место, но меня никто не брал — я был слишком
молодым. Никто не верил, что у меня хватит
силёнок для тяжёлой таёжной работы. На
дворе был ещё август, а уже выпал снег,
вода в ручьях стала ледяной.
Наконец я встретил среди старателей земляка
из Бийска Прокопия Малышева. Вместе с ним
работал сын, мой однолеток, — и они приняли
меня в бригаду. И вот впервые вышел я на
работу на новом месте.
Начали с того, что разложили на земле
костры, "пожоги", как их там называют,
стали оттаивать пласт. Пахло углём, дым ел
глаза. Это показалось мне удивительным:
лето, а земля мёрзлая. Зимой стало ещё
труднее. Чтобы размягчить землю, мы клали в
шахту раскалённые камни — бут. Многие
стремились трудиться на поверхности, у
колод с водой. А я старался работать в
шахте — там было всё же теплее...
Прошёл не один месяц, пока я наконец
освоился с тяжёлым старательским трудом и
стал полноправным членом бригады. Так я
прожил в Якутии до 1942 года. Когда
началась Великая Отечественная война, мы
принялись за дело ещё жарче. Ведь золото
было нужно стране для того, чтобы бить
врага. Золото, которое мы брали в мёрзлой
якутской земле, превращалось в боевое
снаряжение, в орудия, самолёты.
Я тогда не знал, что, добывая золото для
страны, добываю для себя не меньшую
драгоценность — выносливость, силу. Но
пришёл день, когда эти качества мне очень
пригодились.
Даже отделённые многими тысячами километров
от фронта, мы, приисковые рабочие,
внимательно следили за ходом гигантской
битвы, с болью в сердце слушали каждый день
по радио всё более и более тревожные
сообщения. Гитлеровцы наступали, рвались в
глубину России.
Я и мои товарищи по работе не раз писали
заявления с просьбами отправить нас на
фронт — но неизменно получали один и тот же
ответ: "Считайте себя на фронте". Но моя
мечта всё же сбылась: однажды из Аллах-Юня
на прииск приехал военный комиссар, вызвал
меня и вручил повестку. Я простился с
друзьями и через несколько дней уже поплыл
на пароходе в Иркутск.
Так я и оказался на границе Маньчжурии, а
вместо кайла взял в руки винтовку. Скрывать
не буду, служба была нелёгкой. Тут-то мне
пригодились и физическая сила, и закалка,
полученные на работе.
Ко всему я, кажется, привык, а вот на
следующий день после встречи с майором
Игумновым с постели не мог подняться. Тогда
я сказал себе: "Нет, хватит с меня. Достаточно
я потаскал мешков, бадей с песком, гранитных
валунов, тяжёлой пехотной амуниции, чтобы ещё
и штанги ворочать. Да и зачем мне это:
специальность у меня теперь тонкая, деликатная,
имею дело со стальными волосками, пружинками,
а они не силы требуют, а нежности".
— Так что вы уж разрешите мне, товарищ
командир, — попросил я командира полка, — к
этому тяжёлому вопросу больше не
возвращаться. А если надо спортом мне
заниматься, то я себе что-нибудь полегче
выберу.
Так закончил я свой рассказ, и командир полка,
внимательно слушавший меня, оказал:
— Ну что ж, Ломакин, спорт — это дело
добровольное. Неволить вас никто не будет.
Одно замечу: вы вот старателем были, а того
не понимаете, что майор Игумнов тоже
старатель. Вот скажите: если вы нащупали бы
в недрах земли самородок, успокоились бы, пока
его не достали? Все жилы себе, наверное,
растянули бы, тонны песка перекопали, а
достали бы. Вот так и Игумнов. Он нащупал
самородок и хочет достать его на пользу
людям... Что же, ладно, можете быть свободны.
Но свободным, выйдя из кабинета командира,
я себя не почувствовал. У меня всё звучали
в ушах его последние слова. После этой беседы
я взглянул на майора Игумнова другими
глазами.
Старатель! Это слово сближало меня с майором,
делало понятной его настойчивость. Он
искал способных ребят, готов был посвящать
им всё своё свободное время, учить их; и
хотя поднимание тяжестей я по-прежнему спортом
не считал, но в день очередной тренировки всё
же явился в спортивный зал.
— Прибыл! — радостно встретил меня майор
Игумнов. — Хорошо! Ну что же, снимай ремень.
Пришлось снять ремень. Но дальше всё пошло
совсем не так, как в первое моё посещение.
Никто не предлагал мне больше поднимать
стокилограммовую штангу. После нескольких
предварительных упражнений Игумнов сказал:
— Ну что же, Ломакин, принимаем тебя в наше
братство. Становись на весы. — И, заметив
моё недоумение, спросил: — Что, не знаешь,
для чего? Я объясню. Количество поднятых
килограммов во многом зависит от веса
спортсмена. Чем больше вес атлета, тем более
тяжёлую штангу он может поднять. Поэтому все
тяжелоатлеты разделяются на весовые
категории: легчайшая — 56 кг, полулёгкая
— 60 кг, лёгкая — 67,5 кг,
средняя — 75 кг, полутяжёлая
— 82,5 кг, тяжёлая
— 82,5 кг и выше. Вот почему
необходимо выяснить, сколько ты весишь, —
закончил своё объяснение Игумнов.
И когда стало известно, что мой вес
равен 81 кг, Игумнов добавил:
— Будешь, стало быть, выступать в полутяжёлом
весе. Тебе предстоит изучить технику
классического троеборья, в которое входят жим,
рывок и толчок. Слышал что-нибудь
об этом?
Я вынужден был признаться, что ничего не
слышал и даже не подозревал, что штангу
поднимают разными способами.
— Ну вот и отлично, — почему-то
обрадовался Игумнов, — тем легче тебе будет
изучить технику поднимания штанги. Но для этого
тебе необходимо будет развить силу,
выработать точность движений, быстроту
реакции. Все эти качества нужны в каждом
виде спорта, в том числе и в тяжёлой
атлетике. Сейчас я покажу тебе гимнастические
упражнения со штангой. Вес будет небольшим,
— добавил Игумнов с улыбкой, взглянув на моё
помрачневшее лицо.
И в самом деле, все упражнения со штангой
— выпады вперёд, приседания, наклоны —
проводились с небольшим весом и сразу мне
понравились. Они приятно растягивали мышцы,
были необычны по темпу, по разнообразию
движений. И я впервые в этот день
почувствовал, что в моих руках зажат не
мёртвый груз, а как бы живое сильное
существо, которое покоряется мне, когда я
действую правильно, и сопротивляется моим
усилиям, когда я ошибаюсь.
Потом я смотрел, как занимались другие
спортсмены, и Игумнов, стоя рядом со мной,
говорил:
— Вот посмотри, как выполняется жим.
И я видел, как атлет энергичными усилиями
ног и корпуса плавно отрывал штангу от
пола и поднимал её на грудь, а затем, по
сигналу Игумнова, усилиями одних лишь рук
выжимал вверх.
— Вот это и есть первое упражнение
классического троеборья, — говорил мне
Игумнов. — Силовое упражнение. А теперь
посмотри рывок. Это самое сложное, как мы
говорим, "темповое" движение.
И я видел, как тяжёлая штанга отрывалась от
помоста, как в тот момент, когда гриф штанги
был на уровне живота спортсмена, следовал
резкий рывок, стремительное приседание и
штанга оказывалась уже на выпрямленных кверху
руках.
Если рядом не было бы Игумнова, если он не
объяснял бы мне, что к чему, то рывок показался
бы мне, наверное, одним лёгким стремительным
движением. Спортсмен выполнял его так
непринуждённо, словно штанга ничего не
весила. Но, слушая рассказ тренера, я понял,
что рывок требует от спортсмена
исключительной согласованности движений,
безукоризненной техники и даже смелости. Я
подумал: "Неужели я смогу когда-нибудь
вот так же уверенно и точно поднять штангу?"
Именно в тот момент я и понял, что одной
лишь природной силы мало. Для того чтобы
стать штангистом, нужно ещё и мастерство,
а штанга — это не бадья с золотоносной
породой, не куль с сахарным песком. И мне
стало интересно.
А в то время как я, стоя у помоста, думал
об этом, один из учеников Игумнова уже
готовился к третьему движению — толчку.
Как оказалось, толчок — это своеобразное
сочетание жима и рывка. Коротким энергичным
усилием штанга берётся на грудь, атлет
подседает под штангу, как в рывке, а затем,
встав из подседа, уже выталкивает её,
одновременно вытягиваясь в ровную стойку.
Как объяснил мне Игумнов, толчок позволяет
поднять вес больший, чем при жиме или
рывке, и потому особенно важен для конечного
результата — суммы килограммов. А как раз
эта сумма и определяет победителя на
соревнованиях.
Спортсмен может добиться выдающегося
результата в одном из трёх движений, но если
в двух других движениях результат у него
низкий, то не видать ему первого места.
Настоящий штангист должен быть силён в каждом
из упражнений, входящих в классическое
троеборье.
С тренировки я возвращался полный впечатлений.
Мне тогда не было ясно, как достичь в штанге
мастерства, но уже хотелось достичь его, и я
с нетерпением ждал следующего дня занятий.
Я быстро подружился с моими новыми
товарищами-спортсменами: сержантом
Чегодиным, лейтенантом Поповым, старшим лейтенантом
Шендаровичем. Ближе стали мне и старые друзья.
Теперь мы шли на тренировки вместе, и наши пути
расходились только у ворот стадиона: одному
нужно было идти на футбольное поле, другому —
на беговую дорожку, третьему — на
гимнастические снаряды. Я же стал постоянным
посетителем тренировок по тяжёлой атлетике.
С каждой неделей я чувствовал, как моё тело
наливается новой силой, как оно становится
стройней и гибче. Через два с половиной месяца
регулярных занятий я уже научился не бояться
штанги, смело идти на "подрыв", как называют
штангисты внезапный подброс штанги от бёдер
вверх, хорошо выполнял "подсед" и знал, для
чего его нужно делать. Чем тяжелее штанга, тем
труднее её поднять. Подсаживаясь под неё,
спортсмен, словно домкратом, вздымает её вверх
всей пружинной силой своего тела.
Научился я, правда, не совсем ещё точно,
выполнять жим, рывок и толчок, и штанга как бы
подружилась с моими ладонями. Она всё реже
вырывалась из моих рук, мне удавалось
зафиксировать всё больший вес.
Однажды, явившись на тренировку, я сразу же
заметил, что происходит что-то необычное.
Мои товарищи о чём-то оживлённо беседовали,
а наш тренер не торопился приступать к
занятиям.
— Поедем в Ленинград, — объявил мне старший
лейтенант Шендарович, заметив мой недоумённый
взгляд.
Я был ошеломлён: мы поедем в Ленинград?
Неужели я увижу Россию, всю Россию — от края
и до края, увижу и Москву, и город Ленина?
Это казалось мне совершенно невероятным.
Для того чтобы понять ту радостную сумятицу,
которая поднялась в моей душе, надо помнить,
что всю свою жизнь я провёл на Алтае, в
Якутии, в самых глухих её местах, да ещё на
Дальнем Востоке. Я никогда не видел России,
как называли мы, сибиряки и дальневосточники,
центральные районы нашей Родины. Сколько раз,
задумавшись над газетой или книгой, я
мысленно совершал это далёкое путешествие. И
вдруг оно вот так сразу должно было произойти
наяву.
Я так разволновался, что даже забыл спросить,
для чего же мы едем в Ленинград, и не подумал,
что это путешествие может быть связано всё с
той же штангой, которая в тот момент, забытая
всеми, лежала на помосте.
Тут я услышал слова майора Игумнова, обращённые
ко мне:
— Ну, Трофим, смотри не подкачай, будешь
участвовать в розыгрыше первенства Советской
Армии.
Только тогда я наконец понял, что мне предстоит
не только впервые побывать в Москве и в
Ленинграде, но и впервые принять участие в
спортивной борьбе.
Путешествие в прошлое и будущее
Я никогда не забуду этой поездки. Мы ехали
весёлой и дружной компанией. На одной из
станций разыскали шайбы и шестерни и, насадив
их на ломик, сделали импровизированную штангу.
Она и совершила с нами всё путешествие с
востока на запад.
Велико было удивление пассажиров, когда они
увидели на первой же большой остановке
спортивную тренировку на перроне. Нам
предстоял долгий путь, и если мы не
тренировались бы в дороге, то плохо выглядели
бы в Ленинграде на соревнованиях.
С тех пор мне пришлось много поездить,
побывать во многих странах, но не было
более радостного путешествия, чем эта первая
поездка в Москву.
Десять дней в поезде... Всё это время от
рассвета до темноты я, почти не отрываясь,
простоял у окна. Передо моими глазами
проплывала моя страна, мой Советский Союз.
Сколько я читал обо всех этих местах, как
часто пытался представить их себе так же
ясно и ощутимо, как родной Алтайский край,
как якутскую тайгу, как побережье Тихого
океана. А теперь я своими глазами видел
равнины Западной Сибири, пересекал
полноводную Обь, любовался склонами Уральских
гор и на остановках упражнялся со штангой.
С каким жадным любопытством окидывал я
взором просторы нашей страны, с каким
огромным нетерпением ждал приближения к
Москве... Двигались мы быстро, но осень
обгоняла нас. Багрянцем зажигались леса,
тёмной водой наливались дорожные колеи,
дождик штриховал горизонт, но мне казалось,
что всё вокруг озаряет весеннее солнце.
В Москву мы приехали 7 ноября. С самого
раннего утра нам навстречу из поездного
репродуктора неслись праздничные песни,
бой кремлёвских курантов, шум Красной
площади. И казалось, что наш поезд
движется вперёд вместе с мотопехотой и
танками, проходившими в те минуты мимо
Мавзолея Ленина.
Мы вышли на площадь трёх вокзалов под
вечер, когда промаршировали уже последние
колонны демонстрантов. В камере хранения
были оставлены вещи. Мы оказались свободны.
Перед нами лежали праздничные, оживлённые
улицы столицы. Куда же прежде всего пойти?
Конечно, на Красную площадь. Такси помчало
нас по широким магистралям, за его стёклами
мелькали огромные нарядные дома, кругом
были люди, звучали музыка, пение, смех.
Старший лейтенант Шендарович служил в
части, которая обороняла Москву в сорок
первом году, и теперь он на правах
москвича взялся быть нашим проводником.
Вот улица Горького, площадь Маяковского,
памятник Пушкину, а там впереди уже
виднелись рубиновые звёзды Кремля. Когда
мы подъехали к Красной площади, уже
стемнело и разом вспыхнули огни иллюминаций.
Я долго стоял у Мавзолея и не мог оторвать
взгляда от красного флага, озарённого
лучами прожектора, горделиво реявшего над
зданием Верховного Совета.
На следующее утро мы вышли на перрон
Московского вокзала в Ленинграде и прежде
всего поехали устраиваться на жильё в
Институт физического воспитания имени
Ленина.
Расположившись в общежитии и разложив вещи,
мы уже совсем было собрались ехать
осматривать город, но майор Игумнов повёл
нас на тренировку в зал. Он был неумолим,
так же как и в дороге. Он хотел, чтобы мы
вступили в борьбу во всеоружии.
Впрочем, нашлось время и для прогулок. До
соревнования оставалась неделя, и всё
свободное от тренировок время мы провели
в музеях и в театрах, с жадностью осматривая
город, где всё было связано с историей
России, с историей революции.
Однажды вся наша команда во главе с Игумновым
и ленинградским штангистом мастером спорта
Алексеем Михайловичем Жижиным, с которым мы
успели подружиться, забрела на Михайловскую
площадь, одну из красивейших площадей
Ленинграда. Мы любовались величественным
зданием Русского музея, когда Жижин обратил
наше внимание на старинный невысокий дом.
— Здесь жил Владислав Францевич Краевский,
— сказал Жижин, — из этого дома вышли
первые российские силачи.
Должен признаться, что тогда фамилия
Краевского мне ничего не сказала, и я не
постеснялся сообщить об этом. И тут же у
порога дома я услышал волнующий рассказ о
том, как шестьдесят лет назад здесь
зародилась отечественная тяжёлая атлетика.
Я и не подозревал, что у российских
штангистов такая большая и славная
история, что они были одними из первых
спортсменов, прославивших свою Родину за
рубежом.
Врач Владислав Францевич Краевский считал,
что лучшим лекарством против всех
человеческих недугов являются не микстуры,
а спорт. Пациентами Краевского стали не
больные, слабые люди, а широкоплечие
силачи. Он искал их повсюду и приводил к
себе на квартиру, в которой рядом с
врачебным кабинетом был оборудован огромный,
залитый светом спортивный зал. Все стены
этого зала от потолка до пола были увешаны
портретами и фотографиями знаменитых
атлетов, пол обит мягким красным ковром,
на котором лежали гири, гантели, штанги,
а с потолка свешивались гимнастические
кольца и трапеции.
На квартире Краевского 22 августа 1885 года
собралось несколько его приятелей-врачей,
и хозяин дома, рослый, сильный человек с
окладистой седеющей бородой, сказал им:
"Коллеги, физическое воспитание народа —
прямое дело российского врача, его
профессиональная обязанность. Я предлагаю
вам учредить кружок любителей тяжёлой
атлетики".
Кружок организовали, и его двери широко
открылись для всех — инженеров и грузчиков,
художников и кузнецов, артистов и
студентов, приказчиков и врачей. Занятия
проводил сам Краевский. Он написал книгу
"Развитие физической силы", в которой
утверждал: "У нас есть много людей великих
по духу. Есть художники, поэты, учёные...
Но есть ли среди нас люди сильные? Это
вопрос!"
Владислав Францевич сам же и ответил на
этот вопрос. За шестнадцать лет своей
деятельности он воспитал целую плеяду
знаменитых российских силачей — штангистов и
борцов. И чем больше Краевский увлекался
этой благородной работой, тем с большей
уверенностью он утверждал: "Мы можем иметь
замечательных силачей, да не одного, а
многих... Россия даст таких атлетов, каких
нет в Европе".
Слова старого доктора оказались
пророческими. Его ученик Владислав
Пытлясинский победил знаменитого немецкого
борца Карла Абса. Другой его ученик,
Моор-Знаменский, толкал 160 кг,
выжимал 132 кг и легко крестился
двойниками — двухпудовыми гирями. Широко
известны имена и других воспитанников
Краевского — Георга Гаккеншмидта, Петра
Крылова, Сергея Дмитриева, который
впоследствии открыл "арену физической
культуры" в Москве, Петра Янковского.
В марте 1889 года воспитанник Владислава
Францевича Краевского Сергей Иванович
Елисеев прибыл в Милан для того, чтобы
принять участие в розыгрыше первенства
мира.
В то время не существовало разделений на
весовые категории. Тяжёлой атлетикой
занимались сильные, атлетически
сложённые, высокие люди. Среди тринадцати
гигантов — претендентов на титул чемпиона
мира — российский атлет был совсем
незаметным. Его вес не превышал
восьмидесяти килограммов, в то время как
каждый из его противников весил 120-130 кг.
Каково же было удивление всех, когда
именно Елисеев завоевал мировое первенство.
Он добился выдающихся по тем временам
результатов.
Это был поистине триумф российского спорта.
Но Краевский справедливо считал, что
Елисеев — это только начало, это только
первая ласточка будущих побед российских
штангистов. Увы, старый доктор не дожил
до того времени, когда его слова
претворились в жизнь. В 1900 году
Владислав Францевич умер шестидесяти
лет от роду.
Вот что услышал я о замечательном
родоначальнике славной плеяды советских
штангистов, со многими из которых мне
пришлось встретиться через несколько дней.
Я уже слышал об их выдающихся победах на
розыгрышах первенства мира в 1946 году
в Париже и первенства Европы в 1947 году
в Хельсинки. Я знал о новом рекорде
Куценко, установленном им за три месяца
до нашего приезда в Ленинград в Москве,
на физкультурном параде. Да, прав был
Краевский: теперь весь мир следил за
успехами наших штангистов.
Но если рассказ Жижина, знакомство с
Владиславом Францевичем Краевским и
его учениками были для меня путешествием
в прошлое, то предстоявшие соревнования,
первые соревнования в моей жизни,
рисовались увлекательным путешествием в
будущее. Я должен был увидеть настоящих
знаменитых силачей. Я должен был испытать
свои возможности, почувствовать, могу ли я
рассчитывать на успех, прав ли был майор
Игумнов, предсказывая мне славное будущее
на спортивной арене.
Однажды утром за несколько дней до начала
соревнований Игумнов повёз нас смотреть
место предстоявшей борьбы. Состязания
должны были проходить в ленинградском Доме
офицеров, и я был поражён, увидев огромный
зал с тяжелоатлетическим помостом,
боксёрским рингом и борцовским ковром.
Здесь всё было приспособлено для тренировок:
прекрасные учебные залы, просторные,
облицованные кафелем душевые комнаты,
комнаты для массажа и отдыха. Здесь я
впервые встретился с Юрием Дугановым, тогда
ещё молодым мастером. Я увидел, как он
занимается, и с трепетом выслушал его
советы. Меня поразило, что Дуганов
тренируется только вполсилы, и он мне
объяснил, что так и надо поступать, никогда
не стремиться к подниманию максимального
веса. Здесь же тренировался и Алексей Жижин,
которому суждено было в ближайшее время
стать моим тренером.
Наконец наступило 15 ноября, долгожданный
день начала всеармейского первенства по
тяжёлой атлетике. В состязаниях принимали
участие не только штангисты, но также борцы
и боксёры.
Мы выстроились на сцене для парада. Раздались
звуки Государственного гимна СССР, и флаг
соревнований медленно пополз к потолку.
Всё было мне в новинку: и большое количество
зрителей, и ослепительно сверкавшие люстры,
и жеребьёвка, и взвешивание. Одно меня
успокаивало — что выступать я буду только на
третий день и к этому времени успею
приглядеться, немного прийти в себя. Но когда
мои товарищи Чегодин и Попов вышли на помост,
я почувствовал, что не могу сдержать
волнения, будто сам начинаю единоборство со
штангой. Я следил за каждым движением друзей,
радовался их удачам. На второй день волнений
стало ещё больше. Выступал Шендарович, с
которым я подружился в дороге, и мой учитель
Игумнов. Они заняли четвёртое и пятое места.
И я подумал, что как было бы хорошо, если мне
удалось бы оказаться хотя бы на десятом месте.
Приближался третий день соревнований. Впервые
в жизни я узнал, что такое бессонница. "Уж не
заболел ли я? — мучила меня всю ночь одна и
та же мысль. — Смогу ли завтра выступать?"
Утром меня стала тревожить другая мысль. Мне
вдруг показалось, что я обязательно перепутаю
жим с толчком. В жиме штангу надо взять на
грудь и поднимать только после судейского
хлопка, а я боялся, что в горячке начну
выжимать штангу сразу же после её взятия на
грудь.
Весь день мои товарищи напоминали мне: "Жди
хлопка". И весь день я постоянно твердил
одну фразу: "Жди хлопка... жди хлопка... жди
хлопка".
Двадцать штангистов полутяжёлого веса
выстроились на сцене. В одном строю со мной
стояли такие знаменитые атлеты, как
заслуженный мастер спорта Александр Божко, а
также мастера спорта Виль Холин и Николай
Комышев. Когда в процессе представления они
один за другим делали шаг вперёд, зал встречал
их громом аплодисментов. Но вот прозвучало
моё имя, и я на внезапно ослабевших ногах
шагнул вперёд. Послышались жидкие хлопки. Это
меня подбадривали мои друзья по команде.
Жим начался с семидесяти килограммов. Но я
решил вступить в борьбу, когда на штанге
будет девяносто. Ведь в каждом движении по
правилам соревнований у меня имелось всего
три попытки, и их необходимо было
использовать с толком.
В зале снова прозвучало моё имя: "К штанге
вызывается Трофим Ломакин". В одно мгновенье
моё тело покрыл пот, и последнее, что я
услышал, выходя на помост, был громкий шёпот
Игумнова: "Жди хлопка".
Я не помню, как выжал первый вес. Я пришёл в
себя только в тот момент, когда штанга,
слегка подпрыгнув, снова оказалась на
помосте. "Неужели всё правильно, неужели я
выжал девяносто килограммов?" — думал я,
принимая поздравления товарищей. Так же легко
мне удалось поднять и девяносто пять
килограммов.
Но вот на штангу поставили стокилограммовый
вес. Я подошёл к ней, присел, взял гриф "в
замок", — крепко сжал большой палец четырьмя
другими пальцами. Ещё ни один подъёмный мускул
не включился в работу, но воля была уже
собрана, тело готово к упругому движению.
Мгновенье — и штанга прочно легла на мою
грудь. И тут, забыв обо всём, забыв о
правилах и судьях, я, не дожидаясь хлопка,
выжал снаряд.
— Вес не засчитан, — услышал я голос судьи.
В первое мгновенье мне захотелось броситься
к нему и сказать, что я хорошо знаю о
двухсекундной паузе, но я тут же понял, что
сделать уже ничего нельзя и мне остаётся
только примириться с поражением.
Огорчённый, убитый неудачей, шёл я с помоста
за кулисы, где ждали меня товарищи. Я думал,
что увижу недовольные лица и услышу упрёки.
Но меня встретили улыбками, а тренер,
похлопав по плечу, сказал: "Эх ты, зубрила!
Ничего, не огорчайся, всё ещё впереди".
И в самом деле, всё было ещё впереди. Рывок
я начал с девяноста килограммов, затем
поднял девяносто пять и, наконец, сто. Но
когда я уходил, использовав свою третью,
последнюю попытку, Божко ещё только
готовился к выходу на помост. Он вырвал сто
семнадцать с половиной килограммов. Я не
верил своим глазам. Неужели подобное
возможно? Нет, мне, наверное, никогда не
поднять такой вес...
Настал черёд последнего движения классического
троеборья — толчка. Я поднял сто семнадцать
с половиной килограммов и попросил поставить
на штангу сто двадцать два с половиной.
— Вес взят, — объявил судья.
Окрылённый успехом, я прибавил ещё пять
килограммов. Вот штанга оказалась у меня на
груди. Вот я поднял её выше — и вдруг
мысль, что этот огромный вес в любую минуту
может обрушиться на мою голову, привела
меня в смятение. Вопреки правилу, что
штанга должна быть тихо опущена на помост,
я со всего размаха бросил её вниз.
"Испугался!" — вспыхнула в мозгу
безжалостная мысль. Я посмотрел в зал: не
смеются ли зрители? А тут ещё судья
подозвал меня к себе и сделал замечание.
Как плохо я кончил своё первое соревнование!
Теперь я стал лишь зрителем, теперь мне
оставалось только смотреть, как будут вести
борьбу настоящие штангисты, — те, кто не
боится штанги, те, кто умеет подчинить себе
слепую силу тяжести.
На штангу установили 130 кг. "Это, наверное,
для Божко", — подумал я. Но нет, на помост
вышел незнакомый мне широкоплечий,
коренастый парень.
— Кто это? — спросил я шёпотом Игумнова.
— Это Воробьёв, моряк из Севастополя, —
ответил мне тренер. — Молодой, но смелый.
Посмотрим, на что он способен.
Я стал напряжённо следить за движениями
незнакомого мне атлета. Мне хотелось, чтобы
этот смелый парень поднял штангу. И я
горестно вздохнул, когда ему это не удалось
сделать. Я следил за тем, как Воробьёв сердито
шагает по сцене, как натирает свои сильные
руки магнезией, как снова решительно
направляется к штанге и снова не может
совладать с нею.
В последней попытке Воробьёва опять постигла
неудача. Моряк, как принято говорить у нас,
штангистов, "схватил баранку", но это не
уменьшило моего расположения к нему. Хотелось
подойти к молодому спортсмену, пожать ему
руку и пожелать удачи.
Но тут я вспомнил, что сейчас должна решиться
судьба первенства: к штанге выходили
последние атлеты. Теперь судьи должны были
подсчитать количество очков, и наши успехи и
неудачи должны были превратиться в
бесстрастные колонки цифр, выведенных в
судейском протоколе.
Объявили результаты штангистов полутяжёлого
веса. Первое место завоевал Александр Божко,
второе — Виль Холин, третье — Николай
Комышев, четвёртое — Богданов. А пятое место
занял я.
Пятое место среди двадцати сильнейших
полутяжеловесов Советской Армии — это была,
конечно, победа. Кроме того, я показал на
первом же своём соревновании результат,
соответствовавший норме первого разряда. Но
больше всего обрадовало меня то обстоятельство,
что наша команда заняла четвёртое место после
Москвы, Ленинграда и Киева. Мы обнимались и
поздравляли друг друга, благодарили майора
Игумнова, а он благодарил нас.
Наш успех оказался, видимо, полнейшей неожиданностью
для всех. Недаром Александр Божко о чём-то
долго говорил с Игумновым, а на следующий день,
встретив меня в институте, стал расспрашивать,
как я тренируюсь, давно ли занимаюсь тяжёлой
атлетикой. Затем знаменитый спортсмен составил
мне недельное расписание тренировки и
предложил писать ему, обращаться за советами.
Этот тренировочный план, написанный рукой
штангиста, который толкнул на моих
глазах 160 кг, был для меня не менее
ценен, чем диплом, полученный на заключительном
вечере. Я много раз перечитывал план Божко
и даже выучил его наизусть.
Божко так же, как и Дуганов, советовал мне не
подходить на тренировках к предельному весу,
обязательно развивать тягу, поднимая штангу
только до пояса, шлифовать "подрывы", не жалея
сил, выполнять со штангой приседания, наклоны,
и обязательно делать гимнастическую зарядку.
— У вас все движения идут ровно, — сказал мне
на прощанье Божко. — Это очень хорошие данные
для троеборца. Имейте это в виду и тренируйте
жим, рывок и толчок, не увлекаясь чем-либо
одним.
Пришёл день прощания с Ленинградом, с новыми
знакомыми, с Институтом физического воспитания,
к которому я успел уже привыкнуть за эти
десять дней. Штангисты разъезжались по домам.
В долгий обратный путь двинулись и мы.
Дома нас встретили торжественно, а мой портрет
был даже напечатан в газете.
— Ну смотрите, Ломакин, теперь не ударьте лицом
в грязь, — сказал мне командир полка. И добавил
с улыбкой: — А помните, как вы бегали от
Игумнова и как вы даже обиделись, когда узнали,
что он считает вас самородком? Вот теперь вас
вытащили на поверхность. Не жалеете об этом?
Я должен был признаться командиру полка, что
не жалею, но настроение у меня было неважным.
Каким бедным показался мне наш спортивный зал,
как пусто было вокруг!
Наступили холода, а наш зал не отапливался.
Многие мои товарищи по поездке в Ленинград
перестали посещать тренировки. Но я и Игумнов
продолжали упорно заниматься. Мы поставили в
зале печку-времянку, и прежде, чем начать
тренировку, я, подбрасывая в печку дрова,
чувствовал себя, как в Якутии, на прииске.
Стыли пальцы, стальной гриф штанги бывал покрыт
инеем, и его приходилось отогревать над
печкой. Но, несмотря на всё это, я регулярно
три раза в неделю тренировался по плану,
составленному Александром Божко.
Так прошла зима, а в мае начальник физподготовки
полка вызвал меня и спросил:
— Хотите ехать учиться в Ленинград?
Я растерялся от неожиданности и не нашёлся
сразу, что ответить.
— А куда учиться? — наконец спросил я охрипшим
от волнения голосом.
— В Институт физического воспитания имени
Ленина. Туда уже едут Шендарович, наш боксёр
капитан Синявский и сержант Новиков — лыжник.
В ответ я смог только кивнуть.
От мысли, что я снова окажусь в городе, который
мне так полюбился, что я приду в институт уже
не гостем, что я буду тренироваться с
известными штангистами, мне хотелось прыгать и
вертеться колесом.
Вскоре наступил день прощания. Я в последний
раз побывал на аэродроме у самолётов своей
эскадрильи, в последний раз потренировался с
майором Игумновым и крепко обнял моего первого
учителя, поблагодарив его за всё. Друзья
пожелали мне новых успехов.
Студенческая жизнь
Вот так в начале июня мы снова оказались в
Ленинграде. Дорога в институт мне была уже
знакома, и с вокзала мы всей компанией сразу
отправились туда, доложили о прибытии,
разместились в одной из просторных комнат
общежития и снова начали готовиться к
соревнованиям. Но на этот раз в предстоящие
соревнования входили не только жим, рывок и
толчок, по и плавание, бег на 3 тысячи метров,
испытания по русскому языку, истории, физике.
Такова была программа приёмных экзаменов, и
только победителям вручался драгоценный приз
— студенческий билет.
Вот почему для меня эти экзамены по волнению,
которое я испытывал, мало чем отличались от
моих первых соревнований. Выдержу ли я, примут
ли меня в институт? Эти вопросы очень тревожили
меня. Ведь на этот раз я повторял уже не одну
коротенькую фразу: "жди хлопка", а
грамматические правила, исторические даты,
законы физики. Успокоение приходило ко мне
только в спортивном зале, где я усиленно
тренировался. Там я однажды встретил Алексея
Михайловича Жижина.
— Поступаете в институт? — спросил он. — Хорошее
дело. Будем вместе работать, я ведь преподаватель
на кафедре тяжёлой атлетики.
Экзамен по поднятию штанги принимал у меня Жижин, и я
был очень горд тем, что установил личный рекорд
в троеборье, набрав 325 кг. Признаюсь, успех
даже немного вскружил мне голову. Но зато на
водной и на беговой дорожках мои результаты
были значительно хуже. Не без труда сдал я
испытания и по другим предметам и теперь с
волнением ждал результата. Но вот однажды утром
нас вызвали к начальнику института. Строго глядя
на меня поверх очков, он сказал:
— Ну что же, товарищ Ломакин, мы примем вас в
высшую школу тренеров. Но предупреждаю:
учиться придётся много и упорно. Справитесь?
— Справлюсь, — ответил я, вытянувшись в струнку.
Так началась моя студенческая жизнь — лекции,
долгие сидения в библиотеке, в кабинетах, в
лабораториях. И одной из таких учебных
лабораторий стал для меня отныне спортивный
зал.
Там я почти каждый день встречался с моим новым
тренером, и надо заметить, что очень скоро
уверенность в моих исключительных способностях,
которая начала было кружить мне голову, сильно
поколебалась.
Прежде всего Жижин очень решительно дал мне
понять, что тренировка со штангой является
только частью всей институтской учёбы, куда
входят занятия по анатомии, политэкономии,
биологии, плаванию, по лёгкой атлетике и
другим дисциплинам. Затем Жижин прямо заявил
мне, что начинать придётся с азов, что сил у
меня много, а техники почти нет, а на одной
лишь физической силе, даже очень большой, в
спорте далеко не уедешь.
Вот почему мы начали с самых простых движений,
будто я, несколько месяцев назад ставший
перворазрядником, только теперь впервые
вышел на помост.
Задача, поставленная передо мной Жижиным, была,
на первый взгляд, не так уж и сложна: чувствовать
движение штанги и правильно сочетать усилия
своего тела. Но очень скоро я стал казаться
себе неуклюжим увальнем.
До тех пор, пока я поднимал штангу, делая все
движения бессознательно, не задумываясь над
ними, мне всё давалось легко. Но теперь, когда
я следил за всеми движениями своего тела, моя
сила будто куда-то испарялась и штанга
покорялась мне всё меньше.
Алексей Михайлович Жижин, видимо заметив, что
я расстроен, сказал как-то после очередной
тренировки:
— Ты, Ломакин, не огорчайся. Это неизбежно.
Хочешь, я расскажу тебе одну индийскую сказку?
Мне было не до сказок, но Алексей Михайлович,
не дожидаясь моего согласия, начал:
— Жестоко палило солнце. Большая жаба, которая
лениво сидела на камне, ненавидела сороконожку,
но не могла её съесть, потому что сороконожка
была слишком твёрдой и обладала ядовитым соком.
Тогда жаба послала сороконожке письмо.
Сороконожка взяла письмо ногой номер 37 и
прочитала следующее:
"Достопочтенная госпожа сороконожка! Я всего
лишь мокрое, скользкое существо, презираемое
на земле. У меня только четыре ноги, а не
сорок. Но в моей голове живёт мудрость и
глубокое знание. Послушай, как я изложу дело,
но стой на месте, не двигайся. Скажи мне,
достопочтенная сороконожка, как это происходит,
что ты при ходьбе знаешь, с какой ноги начинать,
какую двигать второй, какую — третьей,
какую — четвёртой, пятой, следует ли
за ней десятая или сороковая и что после этого
делает вторая или седьмая: двигается дальше
или стоит на месте? И когда ты доходишь до
тридцать девятой ноги, поднимаешь ли ты
двадцать шестую, а шестнадцатую опускаешь? И
когда ты сгибаешь сороковую, то не выпрямляешь
ли ты пятую? Скажи, пожалуйста, бедной, мокрой
и скользкой жабе, имеющей только четыре ноги,
а не сорок: как же ты с ними управляешься, о,
достопочтенная?"
И сороконожка, прочитав письмо, осталась
пригвождённой к земле. Она забыла, какую ногу
должна поднять первой. И чем больше сороконожка
думала, тем больше запутывалась.
— Не знаю, что было дальше с несчастной
сороконожкой, — закончил свою сказку тренер.
— Но ты, я уверен в этом, научишься сознательно
выполнять свои движения и тогда только
станешь по-настоящему сильным, сделаешься
полновластным хозяином штанги.
Мне пришлось примириться с ролью сороконожки.
Запинаясь, неуверенно, ощупью изучал я жим,
рывок и толчок. И понял наконец внутреннюю
взаимосвязь всех движений классического
троеборья. Жим — это "фундамент", основа
троеборья, рывок — "фасад", а толчок — "купол",
венчающий победу. Если жим требует от штангиста
силы, то рывок прибавляет к этому быстроту и
точность. Толчок же является сочетанием и силы,
и скорости.
В каждом движении я допускал много ошибок. В
жиме я чересчур закидывал голову. В рывке,
наоборот, слишком опускал её, в толчке руки со
штангой уходили у меня вперёд, и я терял
равновесие.
Удивительно, как Жижин при всей стремительной
слитности движений успевал подмечать все мои
ошибки, словно у него были не глаза, а
объективы кинокамеры, фиксирующей все движения
на плёнку. При малейшей неточности он
останавливал меня, подходил к штанге и указывал
мне мою ошибку. Под его руководством я
отшлифовывал каждый элемент техники поднимания
штанги: расположение кистей на грифе, разворот
плеч и груди, положение ног.
Тренер вводил в мою тренировку занятия на
гимнастических снарядах (если меня увидел бы
мой старый друг гимнаст Илиневич в тот момент,
когда я беспомощно повисал на кольцах или
перекладине!), ходьбу, бег, упражнения с
гантелями. С каждым днём Жижин увеличивал
количество упражнений со штангой: прыжки,
приседания, тяги.
И, несмотря на всё это, мои результаты долгое
время не росли. Толкнув 125 кг на
вступительных экзаменах, я никак не мог поднять
штангу весом хотя бы на полкилограмма больше.
Время шло, и мне начало казаться, что движения
вперёд нет, что я ничего не смогу добиться.
"Эх, мне, наверное, только мешки таскать", —
думал я, с неудовольствием разглядывая в
зеркале свою коренастую, неуклюжую, как мне
казалось, фигуру. Но Алексей Михайлович был
доволен, и это удивляло меня больше всего. Мой
учитель был доволен мной, и мне оставалось
надеяться, что ему со стороны виднее.
Моя жизнь теперь протекала в напряжённых
занятиях, в работе. Я каждый день узнавал
что-нибудь новое, каждый день передо мной
открывались всё более широкие горизонты
знаний, и понятие "физическая культура"
приобретало для меня глубокий смысл.
Я изучал труды создателя российской системы
физического образования П.Ф.Лесгафта, читал с
карандашом в руках его "Руководство по
физическому образованию детей школьного
возраста". Познакомился я и со взглядами на
роль физической культуры в воспитании
всестороннего, гармоничного человека великих
русских писателей-демократов Н.Г.Чернышевского
и Н.А.Добролюбова. В своих произведениях они
не раз обращались к этому волновавшему их
вопросу. И Чернышевский, и Добролюбов считали,
что физическая культура имеет важнейшее
значение в общем воспитании человека, в
развитии его эстетических, умственных и
нравственных качеств. Много раз я перечитывал
строчки из "Что делать?" Чернышевского, где
он пытался представить себе российскую молодёжь
будущего:
"Как они цветут здоровьем и силою, как стройны
и грациозны они, как энергичны и выразительны
их черты! Все они — счастливые красавцы и
красавицы, ведущие вольную жизнь труда и
наслаждения, — счастливцы, счастливцы!"
Да, поистине чудесно претворились в жизнь эти
мечты.
Скоро я нашёл себе новых друзей. Среди них были
люди самых разных спортивных специальностей:
Литуев — бегун, ставший впоследствии сильнейшим
барьеристом, рекордсменом мира, Мозжухин —
лыжник, Семёнов — бегун. С интересом следил я
за их успехами, а они ходили смотреть на мои
неудачные попытки покорить штангу.
Приближались зимние каникулы, друзья стали
поговаривать об отдыхе, мечтать о поездках
к родным. Но когда кончились занятия, нам
объявили, что весь курс отправляется под
Псков на заготовку дров для института.
Обстановка оказалась для меня привычной: жизнь
в лесу, работа на свежем воздухе. Я с
наслаждением валил деревья, грузил дрова в
вагоны.
Мы организовали бригаду штангистов, в которую
вошли мой сахалинский товарищ Давид Шендарович,
я, Виктор Маслов и Алексей Косолапов. Наша
бригада стала передовой, никто не мог тягаться
с нами. И легкоатлеты в шутку говорили: "Ну
что же тут удивительного, вы же по природе
своей грузчики".
В Ленинград мы вернулись отдохнувшими и
окрепшими. Придя в институт, я обнаружил, что
соскучился по спортивному залу, по штанге, по
придирчивым замечаниям Алексея Михайловича
Жижина.
На первой же тренировке Алексей Михайлович
объявил, что я и Шендарович вошли в команду
Ленинградского военного округа, которая
должна была ехать в Москву для участия в
армейской спартакиаде.
Теперь в моей работе появился новый стимул.
Мне снова предстояло выйти на помост, чтобы
принять участие в борьбе сильнейших
штангистов Вооружённых Сил.
Времени на подготовку оставалось мало, всего
несколько месяцев, но Жижин по-прежнему не
торопился.
— Давай исправим эту ошибку, — говорил он мне.
— Вот здесь ты по-прежнему слишком
закидываешь голову, повтори-ка ещё раз.
А мне казалось, что нагрузка недостаточна, что,
двигаясь вперёд такими черепашьими шагами, я
не успею подготовиться к соревнованиям.
На все мои опасения неизменно давался один и
тот же ответ: "Спешить не следует".
И Жижин оказался прав. Вскоре мне удалось
выжать и вырвать по 105 кг и
толкнуть 135 кг.
Окрылённый успехом, снова поверив в свои
возможности, я ехал в Москву вместе с
сильнейшими военными штангистами Ленинграда
Петром Орским, Валентином Конных и Евгением
Барышниковым.
Спартакиада проходила в летнем театре ЦДСА.
Ещё до начала соревнований я встретился с
Вилем Холиным и сказал ему, что мне удалось
толкнуть 135 кг и что я думаю выполнить
норму мастера спорта. В ответ я услышал:
— Это что, вот тут один парень приедет, у
него толчок посмотришь. Легко сто сорок
килограммов поднимает.
— Кто же это? — спросил я, но Холин
не помнил фамилии молодого силача.
А через несколько дней я увидел, как по парку
чуть вразвалку шёл коренастый и вместе с тем
стройный краснофлотец. Ещё издали я узнал его
— это был Аркадий Воробьёв, тот самый Воробьёв,
который "схватил ноль" в Ленинграде, смело
атакуя штангу весом 130 кг. Я смотрел Воробьёву
вслед и думал: "Ну что же, морячок, посмотрим,
кто теперь сильнее, ведь и я зря времени не
терял".
У штанги встретились уже знакомые мне
спортсмены. Среди них был старшина Григорий
Маликов, который на соревнованиях в Ленинграде
занял первое место в среднем весе, были Холин,
Воробьёв. И при взгляде на этих сильных,
отлично подготовленных полутяжеловесов мою
уверенность как рукой сняло. Теперь я мечтал
только об одном: лишь бы выполнить норму
мастера спорта.
Но когда началась борьба, когда один за другим
спортсмены стали подходить к штанге, показывая
свою силу, ловкость и мастерство, тогда впервые
я узнал, что такое спортивный азарт.
Видимо, на первых соревнованиях незнакомая
обстановка настолько выбила меня из колеи,
что я и не почувствовал вкуса борьбы. Но
теперь, после тренировок с Жижиным, у меня
появилось желание победить, быть первым,
показать, что я не слабее других.
Хорошо помню весь ход того состязания,
второго в моей жизни. Мы шли голова к голове,
постепенно прибавляя и прибавляя вес. В жиме
лучший результат оказался у Маликова — 115 кг,
второй — у Холина — 107,5 кг, третьим был
я — 105 кг. Воробьёв остался на четвёртом
месте. Итак, "фундамент" был заложен хороший,
и это дало мне уверенность, что "фасад" тоже
удастся возвести неплохой. Но тут я ошибся.
Рывок, требующий особенно точной, филигранной
техники, которой я ещё не владел, лишил меня
возможности вести борьбу за второе место. А
Воробьёв поднял штангу весом 112,5 кг
и вышел после двух движений на второе место.
Все силы, которые у меня оставались, я
использовал для выполнения толчка, но и здесь
мой результат оказался лишь четвёртым — 135 кг.
Воробьёв же толкнул 140 кг.
Хорош был этот парень — удивительно
сосредоточенный, упорный, настойчивый. Он по
праву обогнал меня, уступив только опытным
штангистам Маликову и Холину.
Я занял четвёртое место и, хотя осуществил
своё заветное желание, выполнив норму мастера
спорта, всё же не чувствовал большой радости:
мне так и не удалось обогнать молодого моряка.
После соревнований Воробьёв подошёл поздравить
меня с успехом. Сам он выполнил норму мастера
ещё на соревнованиях в Севастополе.
Я узнал, что Воробьёв тоже внимательно
приглядывался ко мне ещё в Ленинграде.
Уединившись в тенистой аллее парка, мы с
ним поделились планами, рассказали о
своих жизнях.
Аркадий Воробьёв оказался моим ровесником,
таким же крестьянским пареньком, каким был
я сам. Вырос Аркадий на берегу Волги, между
Казанью и Ульяновском. В двенадцать лет он
уже переплывал Волгу, был капитаном футбольной
команды, отлично бегал и мечтал о рекордах
Якова Куценко. Но больше всего мечтал Воробьёв
о службе в армии и готовился к этому. Для того
чтобы закалить себя, он спал на сеновале до
самого снега и обтирался ледяной водой.
В том году, когда я, молодой шахтёр, оказался
в пехотной части на границе с Маньчжурией,
Воробьёв надел морскую форму, стал солдатом
морской пехоты на Чёрном море. Воробьёв ходил
на торпедных катерах в устье Дуная, высаживался
в Констанце, а когда кончилась война, попал в
отряд подводно-технических работ.
На водолазную работу отбирали сильных ребят.
В отряде водолазов в свободное время
устраивались соревнования по поднятию тяжестей.
Штангу заменяла такая же вагонеточная ось, как
и у нас на Южном Сахалине. Но в отличие от меня,
которого затащили в спортивный зал почти что
силой, Воробьёв пришёл туда сам. Это был зал
клуба водников. Там-то Аркадий и встретил
своего Игумнова — одесского тренера Валентина
Лебеденко.
— Разрешите поднять вес? — обратился к Лебеденко
молодой моряк.
— Поднимайте, — разрешил ему тренер и стал в
сторонке, наблюдая, что будет дальше.
Воробьёв уверенно взял штангу на грудь, а потом
вытолкнул её вверх.
— Девяносто килограммов — это хороший результат,
— сказал Лебеденко. — У вас дело пойдёт.
И в самом деле, у Аркадия Воробьёва "дело
пошло". Через три месяца он стал абсолютным
чемпионом Черноморского флота и продолжал
тренироваться со всё возраставшим интересом.
Отстояв вахту, Воробьёв брал увольнительную
и направлялся в спортивный зал.
Его силой гордились товарищи-водолазы, о нём
знали на торпедных катерах, его имя стало
известно на эсминцах и линкорах. Теперь у
Воробьёва была одна мечта: закончив службу
во флоте, поступить в медицинский институт и
продолжить занятия спортом.
Нас с Воробьёвым многое связывало, много
общего было в наших биографиях — хотя на первый
взгляд кажется, что наши жизни протекали
по-разному. Воробьёв работал под водой, а я —
под землёй. Воробьёв служил на флоте, я — в
пехоте и в авиации. И всё же общее было. Общим
был тяжёлый труд, который закалил наши тела,
нашу волю, выработал настойчивость. И вкусы у
нас тоже были одинаковыми. В армии я и
Воробьёв привыкли ценить не внешнюю, а
внутреннюю красоту человека — волю, смелость,
настойчивость, целеустремлённость. И в
Воробьёве меня на первых же порах привлекла
несгибаемая воля и то спокойствие, которое
отличает человека, не раз глядевшего в лицо
смертельной опасности.
Мы были ровесниками и в жизни, и в спорте. У нас
были общие планы, общие стремления. И, прощаясь
с моим новым другом, я сказал ему:
— До новой встречи на новых соревнованиях,
Аркадий. Мы с тобой ещё не раз встретимся, и
бороться друг с другом нам придётся тоже не
раз.
Новая задача
— Ну что же, что было задумано — сделано, — сказал
мне Алексей Михайлович Жижин после моего
возвращения в Ленинград. — Надо ставить новую
задачу, товарищ мастер спорта.
— Какая же это задача, Алексей Михайлович? — спросил
я.
— А сам ты как думаешь? — в свою очередь, спросил
меня Жижин.
— Хорошо бы довести толчок до ста сорока килограммов.
— Ну а я предлагаю задачу пошире. Будем готовиться
к участию в первенстве СССР.
"Первенство СССР" — как заманчиво звучали эти
слова... Ведь в нём должны были принять участие
сильнейшие из сильнейших, те, о ком я только
слышал или читал, но никогда ещё не видел рядом
с собой. Неужели я имею право на борьбу с
сильнейшими штангистами Европы, с теми, чьи
имена вписаны в таблицы мировых рекордов?
Мысли об этом волновали меня всё больше и больше.
Кончился учебный год, все студенты разъехались.
Один лишь я остался в Ленинграде: от дома меня
отделял слишком долгий путь.
Жижин перед отъездом составил точный план моих
тренировочных занятий. В них входили кроссы,
плавание и работа со штангой.

Как скучно стало в пустом зале! Но и оставшись
один, я продолжал настойчиво выполнять план
своего тренера. Это была работа, требовавшая
больших усилий.
После разминки я подходил к штанге и по три
раза выжимал 65 кг, 75 кг,
85 кг. А потом ставил на десять
килограммов больше и 10 раз
выжимал этот вес.
Затем я переходил к рывку или к толчку,
повторяя и здесь все подходы. После занятий,
потный и усталый, но удовлетворённый, уходил
в душ. За тренировку я поднимал до двенадцати
тонн груза.
Если ещё год назад мне сказали бы, что я
способен на такую нагрузку, я не поверил бы.
Мне часто вспоминалось первое посещение
спортивного зала и то утро, когда я не мог
подняться с постели, чувствуя боль в каждой
мышце.
Упражнения, входившие в мою тренировку, были
очень разнообразными. Я заставлял работать все
мышцы тела, даже мышцы лица. Но чувствовал
себя бодрым, свежим и с удовольствием видел,
что с каждым днём становлюсь шире в плечах и
вместе с тем стройнее. Я наконец-то перестал
быть сороконожкой!
Особенно старательно я работал над тягой. Мне
хотелось так же легко подтягивать тяжёлую
штангу к поясу, как это делал Аркадий Воробьёв.
Без такой тяги трудно добиться высокого
результата в толчке. Систематически
отрабатывал я и "подрывы", начиная с веса 100 кг
и доводя его до 120 кг. Одним движением я
поднимал штангу к поясу и опускал её обратно
на помост.
Со стороны эти упражнения казались, наверное,
скучными, и грохоту было больше, чем в
колхозной кузне, но мне эти движения доставляли
истинное удовольствие. Они становились для меня
необходимыми, как пища, как вода. Они наполняли
тело упругой бодростью.
Свободные от занятий часы я проводил с книгами,
ездил в Озерки купаться, гулял по Ленинграду,
любуясь его просторами, прекрасной архитектурой
его зданий.
Первого октября институтские коридоры снова
заполнились оживлённой, отдохнувшей, загоревшей
молодёжью. Вернулся и Алексей Михайлович Жижин
Я с нетерпением ждал первой тренировки и оценки
учителя: удалось ли мне подвинуться вперёд, не
зря ли было потрачено время?
— Ну что, начнём? — сказал Алексей Михайлович,
когда мы с ним встретились у помоста. После
обычной разминки Жижин установил на
штанге 80 кг и сказал:
— Попробуй рывок, пять подходов.
Прежде чем подойти к штанге, я восстановил в
памяти все детали движения, которое
проделывается всего за четыре секунды. Старт,
подъём штанги до подседа, подсед под штангу,
вставание со штангой и фиксация веса — вот
отдельные звенья рывка. Но для того чтобы
каждое звено прочно сомкнулось со следующим,
для того чтобы все они не рассыпались, нужна
была абсолютная, можно даже выразиться,
снайперская точность. Малейшее колебание руки,
не вовремя выдвинутая вперёд нога, замедление
скорости движений — и звенья не сольются
воедино, штанга полетит вниз.
Несколько раз глубоко вобрав в себя воздух, я
решительно направился к помосту. Крепко захватил
гриф в "замок". Ещё раз проверил точность
захвата, задержал дыхание, и, напрягая мышцы
спины и ног, вытянул штангу и в следующее
мгновение подсел под неё для того, чтобы тут же
всем телом, сжатым в упругую пружину,
выпрямиться и зафиксировать вес.
Потом я опустил штангу на помост и посмотрел на
Жижина, ожидая замечаний. Но Алексей Михайлович
только молча кивнул. Тогда я снова склонился к
грифу и сделал ещё один рывок, затем третий,
четвёртый, пятый, и каждый раз штанга,
подчиняясь мне, покорно взлетала вверх. А когда
я в последний раз положил штангу на помост,
Жижин улыбнулся и развёл руками.
Что означал этот жест? Похвалу? Недовольство?
Крепко сжав руки, словно обхватывая пальцами
стальной гриф, я стоял и ждал оценки своей
работы.
Жижин сказал:
— Молодец!
И всё. Одно только слово, короткое, как сам
рывок. Но я был счастлив, мне казалось, что
сейчас я смогу установить рекорд, своротить
горы. А мой тренер, словно не замечая охватившей
меня радости, продолжил самым будничным
голосом:
— А теперь попробуем толчок.
Я сразу вернулся в пустой институтский зал,
где не было ни судей, ни рекордного веса, а
только мы вдвоём — я и мой тренер. Какое там
"своротить горы", мне нужно было просто
хорошо толкнуть штангу! А больше ничего не
надо.
Алексей Михайлович, позванивая дисками, надел
на штангу 115 кг. Потом он разогнулся и,
посмотрев на меня снизу вверх, спросил:
— Ну как, готов? Тогда пять подходов. Начнём.
Пять раз я выходил на помост и пять раз
толкал штангу, ожидая замечаний тренера. Но
Жижин всё молчал. Он молчал несколько минут и
после того, как я закончил упражнение. Потом
сказал:
— Ну что же, толчковая тяга стала лучше. Но
до Воробьёва ещё далеко. Над тягой придётся
работать.
И мы начали работать над тягой, над подседами.
Работать так буднично и неторопливо, будто мне
не предстояло вскоре встретиться с сильнейшими
штангистами на розыгрыше командного первенства
страны.
Так пришёл декабрь, долгожданный декабрь, и на
просторной сцене ленинградского Дома культуры
имени Кирова я впервые увидел тех людей, чьи
имена так часто повторял, о чьих успехах так
много слышал.
Зрительный зал Дома культуры был переполнен. А
я, хоть и был в числе действующих лиц —
участников соревнования, тоже чувствовал себя
зрителем. У меня разбегались глаза, и каждую
минуту я приставал к Жижину всё с новыми и
новыми вопросами.
Меня интересовало всё: кто вон тот плечистый
гигант с открытым добродушным лицом, и кто
вон тот огромный, добродушно улыбающийся, и
кто этот маленький коренастый человек? Так я
издали познакомился с Яковом Куценко, сильнейшим
тяжеловесом страны и Европы, и с его вечным
противником Серго Амбарцумяном. Я также узнал
Николая Шатова, о котором мне столько
рассказывал Алексей Михайлович. Ведь у них
долго шла упорная борьба, и в этой борьбе
окрепло мастерство моего учителя. На сцене
рядом со мной стояли также Израиль Механик,
Николай Аздаров, Александр Донской, Моисей
Касьяник.
Приехал на соревнования и Евгений Лопатин,
история которого меня глубоко взволновала.
Лопатин, раненный под Сталинградом в кисть левой
руки, по единодушному мнению врачей, должен был
остаться на всю жизнь инвалидом. Но, вопреки
этим печальным диагнозам, молодой штангист
продолжил упорно тренироваться, пересиливая боль
в раненой руке, вернул ей былую подвижность и
стал сильнейшим полулегковесом страны. Он защищал
честь советского спорта на первенстве мира в
Париже и на первенстве Европы в Хельсинки.
А вот и Аркадий Воробьёв. Он ещё издали улыбнулся
мне и приветливо помахал рукой. Теперь мы с ним
были не только противниками, но и союзниками: мы
выступали в одной команде Советской Армии, мы
вместе должны были бороться за командное
первенство СССР.
Я с жадностью следил за выступлениями
штангистов всех весовых категорий. Мне
хотелось всё изучить, всё вобрать в себя — и
рывок Воробьёва, и толчок Куценко, и жим
Лопатина.
Да, эти соревнования были для меня, молодого
спортсмена, огромной школой. Иногда
происходившее на помосте так захватывало
меня, что я забывал о том, что скоро сам должен
буду испытать свои силы, что скоро должен буду
сам держать экзамен перед лицом лучших знатоков
тяжёлой атлетики.
Я проводил в зале всё время вместе с Алексеем
Михайловичем, засыпая его вопросами и завидуя
его удивительной способности мгновенно
запечатлевать в памяти каждое движение
штангиста.
Но даже Жижин не всегда мог удовлетворить моё
любопытство. Наблюдая за выступлениями атлетов
легчайшего веса, я обратил внимание на двух
неизвестных мне спортсменов. Невысокие, но
удивительно хорошо сложённые, они поразили
меня стремительным темпом и лёгкими уверенными
движениями.
— Кто это? — обратился я к Алексею Михайловичу.
Жижин пожал плечами:
— Понятия не имею, какие-то новенькие.
А это были Рафаэл Чимишкян и Иван Удодов. И
тот, и другой через четыре года стали
олимпийскими чемпионами. Но тогда, услышав
ответ тренера, я сразу перестал ими
интересоваться. Моё внимание привлекали
только знаменитые спортсмены.
Но вот наступил час полутяжеловесов, и я с
гордостью встал в один строй с Григорием
Маликовым, Вилем Холиным, Аркадием Воробьёвым
и другими известными атлетами страны. Передо
мной снова лежала на помосте никелированная,
отражавшая свет электрических ламп тяжёлая
штанга. И судьи в белых костюмах не сводили
с нас внимательных глаз.
"Кто из стоящих в строю станет первым? —
подумал я, окидывая взглядом линию
мускулистых, тренированных тел. — Григорий
Маликов? Виль Холин? Или, может быть, Аркадий
Воробьёв скажет наконец своё веское слово?"
Воробьёв, я знал, был готов к этому. После
второго движения — рывка — героем дня стал
Воробьёв. Изумительно легко и красиво
зафиксировал он вес 120 кг, вызвав аплодисменты
всего зала.
Я от души поздравил моего товарища с успехом,
но тут же сделал всё возможное, чтобы
сравняться с ним по сумме двух упражнений.
Однако больше 110 кг в рывке мне поднять не
удалось. Это был мой личный рекорд, но кого
сейчас интересовал личный рекорд Ломакина?
Не смогли догнать Воробьёва ни Маликов, ни
Холин, но борьба продолжилась. Нам предстояло
выполнить толчок, который, как всегда, венчал
все усилия штангистов. Первым здесь стал
Маликов, поднявший 147,5 кг. Воробьёв,
пытаясь обогнать его, заказал 150 кг,
но смог поднять этот огромный вес только на грудь.
Мне удалось толкнуть 140 кг. Я осуществил
своё давнее желание, но и этот результат, о
котором я так мечтал, не принёс мне большого
успеха.
Когда был произведён подсчёт поднятых весов,
стало известно, что Григорий Маликов и Аркадий
Воробьёв в сумме трёх движений набрали
одинаковое число килограммов — 370.
Холин отстал от них на 10 кг, а я от
Холина на столько же.
Мне опять досталось четвёртое место. Четвёртое
место — вот и всё, чего я смог добиться.
Судьба первого места должна была решиться
теперь не на помосте, а на платформе весов.
Все ждали результатов взвешивания Маликова
и Воробьёва. Воробьёв оказался на несколько
сот граммов тяжелее своего противника и
потому занял второе место.
До чего же обидно: подняв тот же вес, что и
победитель, остаться вторым — но таковы
правила.
После взвешивания я подошёл к Аркадию и молча
пожал его руку. Ответное рукопожатие было
дружеским и крепким, а лицо Воробьёва поразило
меня своим спокойствием.
— Ничего, в следующий раз, — сказал он отрывисто.
Я так и не понял, к кому относились эти слова
утешения: к нему самому или ко мне.
В тот момент мне и в самом деле казалось, что я
нуждаюсь в утешении. Снова четвёртый, снова
позади Воробьёва. Нерадостный итог долгой и
кропотливой работы. Но Жижин поздравил меня с
успехом и сказал:
— Следующая наша задача — рывок сто двадцать,
толчок сто пятьдесят.
И именно эти слова тренера, а не поздравление,
подбодрили меня. "Если Алексей Михайлович верит,
что такая задача мне по плечу, тогда дела не так
уж плохи, — подумал я. — Год прошёл недаром". И
я мысленно окинул взглядом пролетевший год,
до предела насыщенный событиями не только в моей
личной жизни, не только в спорте, но и в жизни
моей страны.
В 1948 году наша страна успешно залечивала
военные раны. Газеты полнились сообщениями о
восстановлении городов и сёл, о новых
производственных рекордах, о больших успехах
наших учёных, рабочих и колхозников. Но рядом
с этими радостными вестями всё чаще были
слышны вести тревожные. Шла ожесточённая
борьба сил мира и войны. И в этой борьбе
каждая победа, в чём бы она ни выражалась,
была победой над тёмными силами мировой
реакции.
Именно так я воспринимал успехи моих
товарищей-спортсменов. Их усилия сливались с
усилиями всей страны. И я ликовал, когда в
матч-турнире на первенство мира советский
шахматист Михаил Ботвинник победил американца
Решевского. Я гордился Ниной Думбадзе, когда
она установила новый мировой рекорд в метании
диска. Теперь все виды спорта, как бы далеки
они ни были от тяжёлой атлетики, сливались
для меня в одно большое и значительное понятие:
советский спорт.
Всё казалось близким и интересным. И рекорд
Феодосия Ванина в марафонском беге, и рекорд
Хейно Липпа в самом сложном разделе лёгкой
атлетики — десятиборье.
"Вот это результат!" — думал я, читая сообщение
о замечательном успехе эстонского атлета. И мне
представлялось недовольное лицо американского
спортсмена-десятиборца,
победителя XIV Олимпийских игр
в Лондоне, проходивших как раз в это время.
Ведь результат Липпа был намного выше результата
американца.
Да, много было славных побед на всех фронтах
борьбы. И в том числе на спортивном фронте — у
гимнастов, шахматистов, легкоатлетов.
Но особенно внимательно следил я, конечно, за
новостями в тяжёлой атлетике. Как-то я прочёл в
газетах о конкурсе силачей. Среди участников
конкурса были пекарь-тестомес, шофёр, офицер
Советской Армии, счетовод, учитель — простые
советские люди. Каждый из них много раз поднимал
двухпудовую гирю, но лучшего результата
добился спортсмен из Грузии А.Хатиашвили,
поднявший гирю 350 раз.

"Какие же огромные силы таятся в народе, — подумал
я, — сколько ненайденных ещё самородков скрывается
в его недрах!" И я мечтал о том времени, когда я,
так же как и Игумнов, буду искать способную
молодёжь и учить её, передавать свой опыт.
А пока мне самому надо было учиться, не жалея
сил. Приближались экзамены, всё больше
приходилось засиживаться над книгами и
конспектами, но тренировки проводились, как
всегда, точно в назначенное время. И, как
всегда, мне не терпелось скорее выполнить
новую поставленную тренером задачу: вырвать 120 кг
и толкнуть 150 кг. И, как всегда, Алексей
Михайлович умерял мой азарт всё теми же словами:
"Не спеши, всё ещё впереди, успеешь".
В строю сильнейших
Лично-командное первенство Советского Союза по
тяжёлой атлетике должно было состояться в
мае 1949 года в Воронеже.
Команда Ленинграда, в которую входили Александр
Никулин, Юрий Дуганов, Тимофей Соловьёв и другие
сильнейшие атлеты, готовилась в зале у старшего
тренера Бориса Павловича Адамовича, но я был
по-прежнему верен Алексею Михайловичу Жижину.
Мои результаты медленно, но неуклонно росли.
Весной на первенстве Ленинграда мне удалось
снова поднять в сумме трёх движений 350 кг,
но дело было не в цифрах. Я чувствовал, что
приближаюсь к новым результатам в рывке и в
толчке, что трудная задача, поставленная передо
мной тренером, близка к решению. Но я мог это
только чувствовать, потому что на тренировках
мы по-прежнему работали с небольшими весами.
Проверить свою силу мне предстояло в Воронеже.
Весной 1949 года Воронеж ещё не был полностью
восстановлен. Гуляя по улицам, я всматривался
в обгоревшие камни, в развалины, поросшие травой.
Впервые в жизни мне пришлось побывать там, где
зверствовали гитлеровцы, увидеть следы их дел.
Эти следы ещё не были стёрты, а поджигатели уже
лихорадочно готовили новую мировую войну. При
мысли об этом невольно сжимались кулаки.
Радостной оказалась наша встреча с Аркадием
Воробьёвым.
— Я решил выступить в среднем весе, — сказал он
мне. И, посмеиваясь, добавил: — Теперь уже ничто
не помешает нашей дружбе. Ведь бороться на этот
раз нам не придётся.
А мне почему-то стало жаль, что я не встречусь
на помосте с этим спокойным, волевым человеком,
что мне на сей раз не придётся тянуться за ним,
стараться обогнать его.
Мы много гуляли по Воронежу, осматривая остатки
разрушений и новые стройки. Было очевидно: пройдёт
год-полтора, и этот светлый город
снова поднимется и станет ещё прекраснее, чем
был до войны.
Соревнования начались в Доме офицеров. Зал был
переполнен: ведь на помосте выступали сильнейшие
штангисты страны.
Борьба атлетов легчайшего веса завершилась победой
Рафаэла Чимишкяна. Этот способный молодой штангист
рос очень быстро: подумать только, ещё полгода
тому назад он был почти никому не известен, а
теперь ему вручили красную майку чемпиона страны...
В полулёгком весе победу одержал Николай Саксонов,
в лёгком — Владимир Светилко, в среднем — Владимир
Пушкарёв.
Аркадий в трудной борьбе с сильнейшими штангистами
страны занял пятое место. Ох, уж это "пятое
место", как хорошо знакома мне его почётная
горечь...
А когда пришёл час и мне вступать в борьбу,
самым внимательным зрителем стал Аркадий
Воробьёв. Не отрывая глаз, следил он за выходом
каждого участника соревнований. А здесь было на
что посмотреть: за первенство боролись лучшие
полутяжеловесы страны.
Я просто терялся в этом ряду сильнейших,
однако, несмотря на это, твёрдо решил бороться
за первое место. Ведь без дерзания нет победы.
Мне удалось выжать 105 кг, которые давно уже
стали моим пределом. Но зато в остальных двух
движениях я показал довольно высокие результаты:
рывок — 115 кг, толчок
— 142,5 кг.
В двух движениях мне не хватило двенадцати
с половиной килограммов для того, чтобы
выполнить задачу, поставленную Алексеем
Михайловичем Жижиным, хотя сумма получилась
довольно внушительной — 362,5 кг.
Это было моё новое личное достижение. Но что
значило это достижение, если я снова, в который
уже раз, оказался на четвёртом месте...
Мы жили в гостинице в одном номере с Аркадием
Воробьёвым и по вечерам после соревнований
долго беседовали, обсуждая успехи и неудачи
товарищей, отмечая их сильные и слабые
стороны. Однажды Аркадий предложил:
— Давай петь. Только не просто петь, а
соревноваться: кто споёт лучше?
Я рассмеялся и ответил:
— Давай, но кто же будет нашим судьёй?
— Судьями будем мы сами, — сказал Аркадий и
запел первым.
Он исполнил известную песню "Раскинулось море
широко..." Пел Аркадий с чувством, но не
очень здорово. Потом запел я — "Ленинград мой,
милый брат мой". Судя по всему, Аркадий тоже
был не в восторге от моего исполнения.
Этот наш импровизированный концерт закончился
совершенно неожиданно: к нам в номер вбежала
перепуганная горничная — мол, что случилось,
почему у нас так громко кричат? Горничная и
оказалась нашим судьёй. Она засчитала
поражение нам обоим.
Что же больше всего запомнилось мне из событий,
происходивших на соревнованиях в Воронеже?
Неизгладимое впечатление произвёл на меня
всесоюзный рекорд Якова Куценко.
Много раз после этого приходилось мне видеть,
как дерзание спортсмена, помноженное на его
волю, выучку, мастерство, приносило ему
успех. Не раз впоследствии и самому мне
удавалось ставить рекорды. Но в моей памяти
навсегда остался тот яркий и волнующий момент,
когда в Воронеже на моих глазах Яков Куценко
поднял в рывке 137,5 кг.
"Неужели такое возможно? — спрашивал я себя.
— И если этого смог добиться Куценко, значит,
смогу и я?"
Вот в чём основной смысл рекорда. Его
устанавливает один человек, идущий первым. Но
тут же вслед за ним к новой цели устремляются
десятки, сотни спортсменов.
Вечером того дня, когда Яков Куценко установил
свой рекорд, мы много говорили об этом
замечательном спортсмене с Аркадием Воробьёвым.
Мне хотелось узнать о Куценко как можно больше,
но Аркадий не мог удовлетворить моего
любопытства. И тогда он сказал:
— Ты спроси дядю Сашу Бухарова, он всё знает.
Об Александре Васильевиче Бухарове я много
слышал ещё до приезда в Воронеж, но познакомился
с ним только там на соревнованиях. Это был
невысокий, как все легковесы, стройный и сильный
старик с гладко выбритой головой, круглолицый,
весёлый и приветливый. Пожимая мою руку, Бухаров
произнёс мягким московским говорком:
— Так вот ты какой, Тимошка! Слышал я о тебе.
Слежу за твоими успехами!
С того дня мы с Аркадием частенько заглядывали в
номер к Бухарову, и он тоже заходил к нам.
Я по своему обыкновению засыпал дядю Сашу
десятками вопросов. Мне многое хотелось знать
и из прошлого тяжёлой атлетики, и из её
настоящего.
Александр Васильевич охотно удовлетворял моё
любопытство, много рассказывал о старых российских
силачах, с которыми ему приходилось встречаться,
и о советских штангистах, которых он знал всех
и говорил о них любовно и снисходительно, как
о своих детях. Каждый свой рассказ Бухаров всегда
заключал одной и той же фразой; "Да, крепких ребят
воспитывает тяжёлая атлетика..."
И вот мы с Аркадием направились в номер к
Александру Васильевичу Бухарову. Он отдыхал
после большого трудового дня, проведённого
за судейским столом. Увидев нас, дядя Саша
сказал:
— А, молодые силачи! Ну заходите, заходите,
потолкуем.
Мы присели к нему на постель, и он, улыбаясь,
смотрел на нас и ждал очередных вопросов.
— Ну, каков Куценко? — спросил он и сам же
ответил: — Молодчина Куценко!
Я воспользовался случаем, чтобы тут же задать
десяток вопросов. Кто он, Куценко? Когда
начал заниматься спортом, когда установил
свой первый рекорд, в каких международных
соревнованиях принимал участие?
Александр Васильевич молча выслушал меня,
покачал головой и сокрушённо произнёс:
— Какой же ты любопытный парень, Тимошка!
Но тут же с удовольствием ответил на все мои
вопросы.
Мы узнали от Бухарова, что Яков Куценко
родился в Киеве в семье кузнеца.
Паренёк он был по наследству крепкий, и отец
думал сделать из него хорошего молотобойца. Он
отдал сына в ФЗУ и очень огорчился, когда Яша
изменил фамильной профессии и стал учиться на
слесаря.
Там, в ФЗУ, секретарь комсомольской организации
однажды поручил Якову сделать штангу. Куценко
сделал штангу, сам принёс её в спортивный зал
и первым попробовал поднять, но она закачалась
на полусогнутых руках и грохнулась на пол.
Кто из ребят, окруживших незадачливого
штангиста, мог бы тогда подумать, что скоро
этот рослый мальчик станет сильнейшим атлетом
не только страны, но и всей Европы?
Однако всё же нашёлся человек, который угадал
в Куценко будущего чемпиона. Как и многие
киевские ребята, Яков любил цирк. Его
привлекали ловкие наездники, гибкие и
бесстрашные акробаты, могучие борцы. Он часто
заглядывал в цирк, а иногда попадал и за
кулисы. Молодой слесарь мечтал о том, чтобы
стать акробатом, и старый киевский артист
взялся обучать его этому трудному искусству.
Однажды после занятий Куценко заглянул на
цирковую арену и, увидев там две двухпудовые
гири, решил испытать свою силу. Он стал
медленно выжимать их и удивился сам, как легко
раз за разом гири шли вверх. Вдруг он услышал
чей-то голос:
— Недурно, хлопец, недурно.
Куценко оглянулся и увидел у барьера человека
необъятной ширины с пышными седеющими усами.
Это был Иван Максимович Поддубный —
знаменитый российский борец, о котором так
много слышал молодой киевский паренёк.
С тех пор Куценко стал серьёзно заниматься
тяжёлой атлетикой. Он окончил ФЗУ, стал
работать слесарем на киевской электростанции
и, окончательно решив стать спортсменом,
поступил в Киевский техникум физкультуры.
В 1935 году молодой штангист Яков Куценко
толкнул штангу весом 120 кг. Через два года
он выступал уже в Антверпене на международной
Рабочей олимпиаде. Он начал свою борьбу с
Серго Амбарцумяном, человеком удивительной
силы. Эта борьба является одним из волнующих
эпизодов истории отечественной тяжёлой
атлетики. Много раз встречались эти два
сильнейших тяжеловеса страны, и каждая их
встреча приносила новый успех то одному, то
другому.
Летом 1938 года в Киеве было проведено
первенство СССР, на котором способности Якова
Куценко развернулись в полную силу. Четыре
всесоюзных рекорда установил он в том
первенстве: в жиме, в рывке, в толчке и в
сумме троеборья, которая составила 410 кг.
Ему первому из советских штангистов удалось
перешагнуть за рубеж в 400 кг.
Среди множества поздравлений, полученных
Куценко, было и письмо от Ивана Максимовича
Поддубного.
Эти годы были отмечены большими успехами
советских штангистов. В 1939 году советским
тяжелоатлетам принадлежал 21 мировой рекорд
из 35 зарегистрированных. В 1940 году,
накануне Великой Отечественной войны, Яков
Григорьевич Куценко в четвёртый раз добился
звания абсолютного чемпиона страны.
Куценко был в расцвете своих сил, когда
фашисты напали на Советский Союз. В первые
же дни войны многие советские спортсмены
пошли добровольцами на фронт. Из них было
создано несколько специальных отрядов,
действовавших в тылу у врага. Ушли на фронт
боксёры Сергей Щербаков, Николай Королёв,
Николай Штейн, гребец Александр Долгушин,
борец Григорий Пыльнов, волейболист Анатолий
Чинилин, конькобежец Анатолий Капчинский и
многие другие. Взяли в руки винтовки
велосипедисты, пловцы, яхтсмены. В этом
ряду стояло также много штангистов, и среди
них Николай Шатов, Израиль Механик, Алексей
Жижин. Ушёл добровольцем на фронт и
пятидесятипятилетний Александр Васильевич
Бухаров.
Не остался в стороне и Яков Куценко. Его
направили в танковое училище. Куценко его
успешно закончил, но, к своему великому
огорчению, на фронт не попал; после окончания
училища его послали на Урал ремонтировать
повреждённые в боях машины. Что же, и на этом
посту Куценко сделал немало для победы. В
годы войны он стал коммунистом.
2 мая 1944 года, вскоре после освобождения
его родного Киева, Куценко установил там
мировой рекорд, толкнув 171 кг. Прежний
мировой рекорд американца Стива Станко — 168 кг
— установленный в 1940 году, был превышен на
три килограмма.
Яков Григорьевич Куценко защищал честь
советского спорта на первенстве мира в Париже.
Там он впервые встретился с американским
негром Джоном Дэвисом, который тогда был в
расцвете молодых сил. Куценко проиграл Дэвису
в первых двух движениях, но в толчке победил
американца и заставил говорить о себе
спортивную прессу всего мира.
Через несколько дней после окончания мирового
первенства, на котором советская команда
уступила только американцам, Яков Куценко,
выступая на зимнем велодроме в Париже,
толкнул 171 кг. Этот результат вызвал
аплодисменты 20 тысяч парижан, заполнивших
трибуны зимнего велодрома.
В тот вечер дядя Саша ещё долго говорил нам
о душевной теплоте Якова Григорьевича, о его
любви к товарищам, о том большом чувстве
ответственности, которое всегда его отличало.
Когда наступила пора прощания с Воронежем,
с моими товарищами, Аркадий Воробьёв сказал
мне:
— Буду добиваться мирового рекорда в рывке.
— И, немного помолчав, добавил: — Как только
демобилизуюсь, перееду в Свердловск, буду
кончать десятилетку и поступать в медицинский
институт.
В его голосе было столько спокойной
уверенности, что эти слова не прозвучали как
хвастовство. Да, он чувствовал свою
возраставшую силу, этот молодой атлет. Он
знал, что сможет достигнуть намеченной цели.
Я, вернувшись в Ленинград, снова приступил к
занятиям в институте, к тренировкам под
руководством Алексея Михайловича Жижина.
Через два месяца я получил из Свердловска
письмо. Бывший краснофлотец, а теперь учащийся
вечерней школы Аркадий Воробьёв сообщал мне,
что он находится в хорошей спортивной форме
и на днях показал в сумме троеборья 387,5 кг.
Итак, Воробьёв по-прежнему шёл впереди,
по-прежнему указывал мне дорогу к высоким
результатам.
Я был в отличной спортивной форме. Тренировки
по умело составленному плану, в который Жижин
включил гимнастические стойки, занятия на
кольцах и другие упражнения, развивающие силу
рук и весь плечевой пояс, помогли мне
избавиться от некоторых моих недостатков.
Ещё большее значение имели занятия в институте.
Я изучал анатомию. Теперь работа человеческого
организма стала мне понятна так же хорошо, как
инженеру понятно действие сконструированной им
машины. Подходя к штанге, я ясно представлял
себе, какие мышцы включатся сейчас в работу,
каково будет их взаимодействие. И, вспоминая
иногда индийскую сказку о бедной сороконожке,
запутавшейся в собственных конечностях, я только
снисходительно улыбался.
Как-то раз после тренировки Алексей Михайлович
сказал мне:
— Ну что же, Трофим, давай ставить новую
задачу. Надо ещё больше подгонять жим. Без
этого дело дальше не пойдёт.
Конечно, Алексей Михайлович был прав. Я сам
понимал: надо заняться жимом, хотя это
движение и так шло у меня хорошо.
Казалось бы, что может быть проще, чем жим?
Нужно взять штангу на грудь и поднять её
усилием одних только рук. Но успех здесь
зависел не только от силы спортсмена, но и
от множества других причин: правильной
стойки, наиболее целесообразного захвата
грифа, положения плеч, спины и ног.
Правила судейства очень строги. Во время жима
не разрешается сгибать ноги в коленях,
поворачивать туловище, менять стойку, сходить
с места, отрывать пятки или носки от пола,
менять хват, помогать подъёму штанги ногами
и туловищем, выжимать её с отставанием одной
руки от другой. И хотя жим — силовое
движение, но в нём, так же как и в рывке и в
толчке, все движения должны быть точно
согласованы. Так, удачный выстрел возможен
только при тончайшем согласовании всех
действий стрелка. А ведь поднятая штанга — это
тоже своего рода "снайперский выстрел". И как
стрелок много раз поднимает к плечу свою
винтовку, прицеливается и затем плавно
нажимает курок, затаив дыхание, так и я много
раз поднимал штангу на грудь и выжимал её, ища
и исправляя ошибки, мешавшие мне показать
высокий результат.
Тренировки требовали значительных усилий и
совпадали с большой учебной нагрузкой. 1950 год
был последним годом моей учёбы в институте.
Занятия открывали передо мной всё новые и новые
горизонты. Я изучал физиологию, врачебный
контроль, массаж. Занимался другими видами
спорта, входившими в учебную программу;
борьбой, боксом, плаванием.
А когда мне было особенно трудно, я вспоминал
Якова Григорьевича Куценко в тот момент, когда
он в Воронеже устанавливал всесоюзный рекорд,
и говорил себе: "Если Куценко смог, почему же я
не смогу?"
Перелом
В мае 1950 года в Харькове должно было состояться
лично-командное первенство СССР.
Но это время совпадало с особенно напряжённой учёбой в
институте. Приближались выпускные экзамены, и о
поездке нечего было и думать.
Да, мне было нелегко отказаться от новой встречи
с лучшими штангистами страны, нелегко было
подавить в себе мысль, что, может быть, на сей
раз удалось бы добиться победы... Ведь все эти
месяцы я упорно тренировался и находился в
хорошей форме.
Я жадно следил по газетам за развитием событий
в Харькове. Это доставляло мне ещё больше
волнений, и борьба, которую я не мог
наблюдать, ощущалась ещё острее.
Однажды утром я узнал о том, что Аркадий
Воробьёв в Харькове на 500 г превысил
мировой рекорд в рывке двумя руками для
атлетов полутяжёлого веса, ранее
принадлежавший американцу Стенли Станчику.
Новый рекорд равнялся теперь 132,5 кг. Я
был поражён. Ведь совсем недавно в Воронеже
Аркадий делился со мной своей мечтой, и вот
он осуществил её. Какой удивительный
результат! Как много пришлось мне
поработать, чтоб выполнить задание
Алексея Михайловича и вырвать 120 кг... А
Воробьёв поднял на 12,5 кг больше, чем я.
А кто такой этот американец Стенли Станчик,
которого побил Воробьёв? Уже несколько раз
передо мной мелькала в печати эта фамилия,
но я не видел за ней живого человека.
Теперь же, когда Воробьёв стал рядом со
Станчиком, заставил его потесниться,
вычеркнул его фамилию из таблицы мировых
достижений, американец как бы ожил и
представился мне почему-то рыжеволосым,
веснушчатым парнем. А рядом с ним я видел
Аркадия, его плечистую и вместе с тем
стройную фигуру, спокойное, сосредоточенное
лицо. Вот он натирал ладони магнезией. Вот
ждал, пока на штанге установят заказанный
им рекордный вес. Мне казалось, что я слышу
звон сталкивающихся металлических дисков,
вижу фигуры двух ассистентов, которые с
трудом волокут по помосту тяжёлую штангу.
В тот момент, когда штангу готовят, когда
атлет ещё не подошёл к ней, больше всего
ощутима её огромная, неумолимая тяжесть.
Но вот ассистенты покинули помост. Воробьёв
вышел на его середину. Он остановился
в двух-трёх шагах от штанги, несколько
мгновений постоял, опустив руки, и
посмотрел на штангу, словно о чём-то
задумавшись. Затем решительно подошёл,
наклонился, сжал гриф пальцами, проверил
положение ног и точность хвата. В следующее
мгновение штанга оторвалась от пола и
взлетела вверх. Я увидел весь этот путь,
сопротивление огромного веса, его колебание
в руках штангиста, его стремление увлечь
спортсмена за собой, сбить с ног.
Но нет, человеческая воля оказалась сильнее,
и вот, чуть приподняв голову, словно не веря
самому себе, Воробьёв посмотрел вверх, туда,
где покорённая им тяжесть висела в воздухе,
зажатая в его ладонях.
Эта картина реально и выпукло стояла передо
мной. И мне начало казаться, что это я сам
только что вырвал вес, равный мировому
рекорду, что это я сам побил американского
штангиста.
Но я тут же пришёл в себя и печально улыбнулся.
Нет, это не я побил Станчика, куда мне с
результатом в 120 кг тягаться с американским
атлетом! Но я сознавал, что этого сумел
добиться советский спортсмен, мой друг Аркадий
Воробьёв, и оттого мне было одновременно и
радостно, и горько.
Мировой рекорд оказался не единственной победой
Воробьёва в Харькове. Там же Аркадий впервые
стал чемпионом СССР, подняв в сумме трёх
движений 412,5 кг и перешагнув за
рубеж 400 кг.
Несколько дней после этого я ходил как
потерянный, и даже Алексей Михайлович Жижин
никак не мог поднять моего настроения. Что
скрывать, в те дни у меня не раз возникала
предательская мысль: "Надо ли продолжать?
Могу ли я тягаться с такими атлетами, как
Воробьёв?"
Но я нашёл силы побороть недоверие к себе,
отбросить эти мысли, недостойные советского
спортсмена. И когда Холин, вернувшись из
Харькова, рассказал мне все подробности
соревнований, он только подзадорил меня.
Я стал с новой энергией готовиться к
первенству Вооружённых Сил, которое должно
было состояться на этот раз в Киеве. Там я
должен был встретиться с Воробьёвым, там в
борьбе с ним я мог ещё раз проверить свои
силы.
Для того чтобы поехать в Киев, мне надо было
не только отлично подготовиться к
соревнованиям, но и досрочно сдать все
экзамены. Смогу ли я выдержать такую нагрузку
и не ударить в грязь лицом ни на выпускных
испытаниях, ни на тяжелоатлетическом помосте?
И я сказал себе: "Смогу".
Готовясь к выступлению в Киеве, я отрабатывал
теперь все три движения так, чтобы быть
достаточно сильным и в жиме, и в рывке, и в
толчке. Я старательно изучал теорию и практику
физического воспитания, физиологию, основы
марксизма, историю тяжёлой атлетики.
Перелистывая конспект истории тяжёлой атлетики,
которую нам читал Евгений Леонидович
Барышников, я снова вспоминал старого доктора
Краевского и его слова о том, что штангисты
России могут быть сильнейшими в мире.
Теперь предсказание Владислава Францевича
Краевского сбылось, но сильнейшими в мире
становились не только советские штангисты.
Быстро росла слава вообще всего советского
спорта. 1950 год стал годом больших успехов.
Наши легкоатлеты, участвуя в первенстве Европы
в Брюсселе, заняли целый ряд первых мест.
Чемпионом Европы стал прыгун Леонид Щербаков,
метательницы Анна Андреева, Наталья Смирницкая
и Нина Думбадзе. Жена моего товарища по
институту Юрия Литуева, Валентина Богданова,
заняла первое место по прыжкам в длину, а сам
Литуев завоевал первенство Европы в барьерном
беге. С триумфом проходили выступления за
рубежом наших гимнастов и баскетболистов.
Радостные вести, почти каждый день появлявшиеся
в газетах, придавали мне силы, держали меня всё
время в большом напряжении. Как хотелось и мне
внести своё слово в этот почётный список побед!
И вот успешно были сданы выпускные экзамены,
закончены тренировки. Полный больших надежд, я
с командой штангистов поехал в Киев.
Мне никогда ещё не приходилось бывать в этом
прекрасном городе. Но я много слышал о нём, о
его живописных улицах и парках, о памятниках
старины, о красавце Днепре.
Город не обманул моих ожиданий. Он оказался
очень хорош. Светлый, зелёный, с людными
улицами. Здесь любили и понимали спорт, здесь
уважали тех, кто достиг в нём мастерства, кто
был способен показать высокие результаты.
Воробьёв встретил меня с радостью. Когда я
поздравил его с мировым рекордом, он в ответ
сообщил мне, что сдал экзамены за десятый
класс и нынешней осенью будет поступать в
медицинский институт. Было видно, что
Воробьёв очень горд и эти свои достижения
расценивает нисколько не ниже достижений
в спорте.
Мы заговорили о предстоящих соревнованиях, и
тут я узнал, что Воробьёв собирается выступать
в тяжёлом весе.
— Так нужно для команды, — сказал он. — Да и
вес у меня велик: восемьдесят три килограмма.
На пятьсот граммов больше, чем нужно для
полутяжёлого. Так что ты уж выигрывай в
полутяжёлом весе.

Эта новость меня нисколько не обрадовала. Уж
очень мне хотелось испытать свои силы в борьбе
с молодым рекордсменом мира. Однако задание
Воробьёва я выполнил: занял первое место в
своей весовой категории и стал чемпионом
Вооружённых Сил.
Мои результаты оказались не так уж плохи.
Прежде всего дала себя знать работа над
жимом. Впервые мне удалось поднять 115 кг.
Улучшился и результат в толчке — 155 кг.
Зато рывок остался тем же — 115 кг.
Закончив борьбу, я стал зрителем. Теперь на
помост вышли тяжеловесы, и среди них был
Аркадий Воробьёв. Я внимательно следил за его
единоборством с Николаем Комышевым. До
последнего движения — толчка — нельзя было
определить, кто же из них победит. Но
Воробьёву удалось толкнуть 160 кг, и это
обеспечило ему первое место.
Мы поздравили друг друга с победой и обменялись
букетами. Воробьёв возвращался в Свердловск,
чтобы стать студентом, я ехал в Ленинград, где
мне предстояло закончить учёбу в институте. Оба
мы стояли перед большими переменами в наших
судьбах.
Седьмого сентября я получил назначение в Москву
для прохождения дальнейшей службы. Наступала
пора прощаться со столь полюбившимся мне
Ленинградом, с институтом, с товарищами, с
Алексеем Михайловичем Жижиным. Впереди была
Москва, столичный коллектив штангистов,
сильнейший в стране.
Меня волновали разные мысли. Как примет меня
этот коллектив? Кто станет моим тренером? Но
прежде чем переехать в Москву, мне предстояло
путешествие на родину, в дорогие сердцу
алтайские места: после окончания института
полагался месячный отпуск.
Я уже давно не бывал дома, и возможность
повидать мать и других родственников, подышать
воздухом Алтайских гор очень манила меня.
Одно огорчало меня: команда советских
тяжелоатлетов должна была принять участие
в розыгрыше первенства мира в Париже. Но я
в эту команду не попал. Аркадий Воробьёв
имел больше прав на борьбу со Стенли
Станчиком: ведь это именно он, а не я,
побил рекорд американца.
Едва только я сел в поезд, познакомился с
соседями и немного отдохнул, как досада
испарилась. И постепенно на смену мыслям об
институте, о спорте и о предстоявшем
первенстве мира пришли думы о доме, о
привольных алтайских местах и об отдыхе,
который ждал меня под родительской крышей.
Вот и Бийск, тихий городок, лежащий между
двумя реками — Катунью и Бией. Там я сел на
попутную грузовую машину. Проехал 60 километров
по Чуйскому тракту и, выпрыгнув на перекрёстке,
отправился по полевой дороге к местному курорту
Белокуриха, где жила моя мать.
Как глубоко и привольно мне дышалось! Всё
радовало глаз и казалось, что я могу пройти
так через весь Алтай и не устану. Впереди
показались строения курорта — парк, домики
деревни. Я постучал в дверь и вошёл.
Навстречу мне бросилась мать, обняла меня и
заплакала. Потом отстранила, посмотрела с
удивлением и сказала:
— Ой, ой, офицер! И какой ты силач, весь в
крёстную удался, в тётю Стешу.
Я засмеялся, крепко прижал мать к груди, а
она всё охала и приговаривала:
— Ой, задавишь, задавишь совсем!
Через час пришли родственники, знакомые,
начались расспросы. Многие следили за моими
успехами по газетам. И теперь осматривали
меня со всех сторон, хлопали по плечам и
спине и всё поражались, каким я стал сильным.
Потянулись беспечные радостные дни. Я ездил
в лес за дровами, возил сено, валялся с книгой
на траве, гулял в парке. И такими далёкими
казались мне дни и месяцы, проведённые в
институтских аудиториях, в тренировочном зале,
на спортивном помосте...
Мне очень хотелось побывать и в той деревне,
где прошло моё детство, в тех местах, где мы
с отцом и дедом искали золото, где зарождалась
моя сила и любовь к труду. Но я так и не
выбрался туда. Быстро промелькнул отпускной
месяц, и вот уже настала пора собираться в
обратный путь.
Как раз в то время, когда я возвращался в
Москву, наша команда вышла на сцену парижского
дворца Шайо.
Всю дорогу я думал о том, что же происходит в
Париже, как успехи Аркадия Воробьёва и Якова
Куценко, Рафаэла Чимишкяна и Евгения Лопатина,
Владимира Светилко и Владимира Пушкарёва. Всеми
мыслями я был с ними и надеялся, что их
сильные противники будут побеждены. На станциях
я пытался покупать газеты, старался ловить
радио, но до Москвы толком так ни о чём и
не узнал.
Прямо с вокзала я поехал во Всесоюзный комитет
физкультуры и спорта к Александру Васильевичу
Бухарову. Он тоже ездил в Париж в качестве
судьи и был одним из тех немногих, кто мог
удовлетворить моё любопытство.
Оставив свой чемоданчик в гардеробе, я быстро
взбежал по лестнице на второй этаж, промчался
по оживлённому коридору, единственному месту,
где можно было одновременно встретить пловцов,
лыжников, велосипедистов, футболистов, боксёров
и яхтсменов, распахнул двери и увидел дядю Сашу.
Он сидел за столом, склонившись над бумагами,
всё такой же подтянутый и гладко выбритый.
Увидев меня, Бухаров печально улыбнулся и
спросил:
— Ты откуда, Тимошка?
— Из отпуска, дядя Саша. И ровным счётом ничего
не знаю.
— Какой же ты любопытный, Тимошка, — сказал,
как всегда укоризненно, Александр Васильевич, —
опять будешь приставать с вопросами, а мне
некогда — видишь, сколько бумаг накопилось?
— Ну, дядя Саша, как же мне не приставать! Ведь
я же ничего не знаю.
— Как не знаешь? — удивился Бухаров. И тут же
грустно добавил: — И хорошо, что ничего не
знаешь.
У меня защемило сердцу.
— Как там Аркадий? — спросил я.
— Второе место, — сказал дядя Саша.
— А Яков Григорьевич?
— Второе место, — снова сказал Бухаров.
— Ну а Чимишкян? — с надеждой задал я новый
вопрос.
— Ох, и любопытный ты, Тимошка! — сокрушённо
качая головой, сказал дядя Саша, но теперь в
его словах уже не звучала обычная ласковая
шутка. — Не трави ты мою душу. — И добавил
дрогнувшим голосом: — Второе место... Словом,
проиграли. — И горестно махнул рукой.
Я стоял перед Бухаровым, опустив голову. Сознание
не хотело мириться со сказанным. Ведь мы же так
сильны! Как же это? С языка рвался новый вопрос:
"Какое же место заняла наша команда?" Но,
взглянув на расстроенное лицо Бухарова, я ничего
не сказал и вышел из комнаты.
Печален был мой приезд в Москву. Каким одиноким
я почувствовал себя, когда вышел с чемоданчиком
на улицу. Куда идти? Сейчас одиночество было для
меня невыносимым. Хотелось, чтобы рядом были
друзья. И я поехал во Дворец спорта "Крылья
Советов".
В просторном зале, сверкавшем сталью, зеркалами
и чистотой, меня встретил Евгений Лопатин.
— Прибыл? — спросил он, направляясь мне
навстречу. — Вот и отлично. Тренироваться
будешь?
— Да нет, я только что с поезда, ещё не
устроился.
— Ну тогда устраивайся поскорее, будем
готовиться к первенству Союза. Ты ведь
входишь в команду.
От этих слов у меня на душе сразу потеплело.
"Входишь в команду" — это значило, что я
не один, что я принят в семью московских
спортсменов, что надо продолжать работать
ещё упорнее, чтобы двигаться вперёд и
добиваться победы.
— А что случилось в Париже? — попытался я хоть
сейчас добиться ответа.
— Ну что тебе сказать? — начал Лопатин. — По
правде говоря, и вспоминать-то не хочется. Не
повезло нашей команде. Заболел Дуганов,
Светилко растянул руку, Куценко плохо себя
чувствовал, а молодёжь, естественно,
волновалась. Вот поедешь за рубеж, поймёшь,
что это значит. Это не то что в Москве или
в Харькове выступать. Там, за границей,
выходишь — и будто весь мир на тебя смотрит,
будто ты один за весь Советский Союз
отвечаешь. Вот и получилось, что Чимишкян
проиграл Намдью. Я тоже второе место занял.
Куценко проиграл Дэвису. Ну и силён этот
негр! Симпатичный. Обидно, что за Америку
выступает. Кто там его ценит?
— А что же Аркадий? Как он Станчику уступил?
— А он и не уступал Станчику, — ответил
Лопатин.
— То есть как не уступал? — удивился я. —
Так почему же он на втором месте?
— А ты вот послушай, — сказал Лопатин. —
Жим начался со ста пятнадцати килограммов.
Аркадий взял вес, а Станчик пропустил. На
штангу поставили сто двадцать килограммов.
Аркадий взял вес, а Станчик его опять
пропустил. Прибавили ещё два с половиной
килограмма. Аркадий взял вес, а Станчик
опять пропустил. У Аркадия больше не было
ни одной попытки. У Станчика оставались
ещё три. Американец заказал сто двадцать
пять килограммов и выжал. Нечисто выжал. У
нас не засчитали бы, а там засчитали.
После этого американец совсем расхрабрился.
Потребовал поставить на штангу сто
тридцать килограммов, но на этот раз дважды
не выжал. Таким образом, после жима Станчик
оторвался на два с половиной килограмма.
Начался рывок. Аркадий решил во что бы то
ни стало отыграться. Сам знаешь, рывок —
его главный козырь. Оба стартовали со ста
двадцати пяти килограммов. Аркадий взял вес,
и Станчик взял. Взял и заказал сто тридцать
килограммов, И, понимаешь, снова взял. Тут
у нас у всех сердце так и замерло. А
Аркадий так спокойно сказал судьям:
"Пропускаю!" Вот смелый парень! На штангу
поставили сто тридцать два с половиной
килограмма. Американец подошёл к штанге в
третий раз. Напрягся, подорвал штангу, но
не тут-то было — сорвалось.
А у Воробьёва оставались ещё две попытки. Вышел
он к штанге. Мы не дышали. Взялся за гриф.
Сделал подрыв, подсел... Но в последний момент
штанга вырвалась из его рук. Что тут было с
нами — и не опишешь. Ведь осталась всего одна
попытка. Не удастся поднять — тогда всё,
проигрыш! Воробьёв ходил по сцене, натирал руки
и не смотрел по сторонам. Потом вышел, впился
в гриф, резко рванул штангу вверх, сразу
подсел под неё и выпрямился, замер на месте.
Стоял и ждал судейской команды, а в зале всё
грохотало и выло. Станчик стоял в стороне
бледный, около судей его босс Гофман вертелся,
руками размахивал. Нам показалось, что прошла
вечность, пока судья дал отмашку и Аркадий
положил штангу. Понимаешь, на глазах всего
Парижа, да что там Парижа — всего мира наш
Воробьёв показал, что мировой рекорд и в самом
деле принадлежит ему, а не Станчику.
Вот так в рывке Аркадий догнал Станчика. Суммы
у них стали равными — но равными только после
двух движений, а впереди ещё был толчок. Так
что радоваться было рано.
Аркадий думал начать толчок со ста пятидесяти
килограммов, а после рывка решил сразу со ста
шестидесяти. Тяга, сам знаешь, у него ого-го!
Первым к ста шестидесяти вышел Аркадий и сразу
зафиксировал вес. Станчик тоже поднял эту
штангу. Поставили сто шестьдесят пять
килограммов. Воробьёв вышел и толкнул. Ну, тут
мы думаем, всё, американец побит — но Станчик
подошёл и тоже поднял вес. Суммы опять
сравнялись. У обоих осталось по последней
попытке. На штангу прибавили ещё два с половиной
килограмма. Станчик сорвался. Теперь всё
зависело от Аркадия. Он взял штангу на грудь —
и не толкнул.
Вот так и вышло, что Аркадий и Станчик в сумме
подняли по четыреста двадцать килограммов, но
собственный вес Воробьёва оказался на шестьсот
граммов больше веса Станчика. Понимаешь, какая
обида! Четыреста двадцать килограммов поднять,
и из-за шестисот граммов отдать первое место
американцу. Вот ведь как бывает...
Лопатин замолчал, помрачнел, пережив заново всё,
что случилось в Париже, а мне стало легче. Я
понял, что мы всё же сильны. Ведь Воробьёв, по
существу, не проиграл Станчику, а выиграл у
него: ведь это не Станчик, а Воробьёв повторил
в рывке мировой рекорд. И как бы отвечая на
мои мысли, Лопатин добавил:
— Да, Аркадия в Париже оценили высоко. И хотя
он занял только второе место, а золотую медаль
ему наравне со Станчиком вручили — как чемпиону
Европы.
После рассказа Евгения Лопатина мой друг стал
мне ещё ближе, и мне ещё больше захотелось
догнать его. Стать таким же сильным, таким же
смелым и волевым, как он. Но для этого надо
было тренироваться ещё упорнее. И под
впечатлением парижских событий я начал
тренировку.
Правда, теперь на занятия в спортивном зале
времени у меня было меньше, чем в Ленинграде.
Работа в штабе требовала большого напряжения
сил. Надо было входить в курс дел, знакомиться
со своими новыми обязанностями и продолжать
учёбу, совершенствовать свои военные знания.
Немного освоившись на новом месте, я стал
посещать зал тяжёлой атлетики во Дворце спорта
"Крылья Советов".
Задача, которую я поставил перед собой,
определялась числом "400". Я решил наконец
перевалить за рубеж 400 кг.
Распределение весов по движениям выглядело так:
жим — 120 кг,
рывок — 125 кг, толчок
— 157,5 кг.
Кроме упражнений со штангой, я занимался
гимнастикой и лыжным спортом, бегал на
коньках. И с каждым днём чувствовал себя всё
увереннее.
Как-то раз я решил проверить себя и поставил
на штангу большой вес — 157,5 кг.
Как легко у меня стало на душе, когда я
вытолкнул штангу уверенно и чётко.
И вот пришёл день, когда московская команда
штангистов, в которую входили Роберт Роман,
Евгений Лопатин, Николай Шатов, Владимир
Пушкарёв, я и молодой атлет тяжёлого веса
Алексей Медведев, выехала в Тбилиси.
Чем дальше мы продвигались на юг, тем
стремительнее отступала зима. Было
удивительно радостно ехать навстречу весне.
В дороге я быстро сдружился с моими новыми
товарищами, особенно с Николаем Ивановичем
Шатовым. Он много рассказывал мне о своих
выступлениях.
Шатов первым из советских штангистов
установил мировой рекорд. Ещё в 1934 году,
вырвав левой рукой (поднимание штанги одной
рукой не входит в программу классического
троеборья, но рекорды в этом упражнении пока
регистрируются) штангу весом 78,4 кг,
он побил достижение швейцарца Эшмана.
Выступление Николая Ивановича в Тбилиси было
последним. После этого Шатов перешёл на
тренерскую и организационную работы.
Тбилиси поразил меня своей красочностью,
теплом и гостеприимством. Я с интересом
приглядывался к грузинским спортсменам,
всегда славившимся своей силой и
ловкостью.
Я надеялся повидаться в Тбилиси с Аркадием,
но среди участников первенства его не было.
После поездки в Париж он, став студентом
медицинского института, навёрстывал
пропущенное в учёбе. Зато я встретился в
Тбилиси с моими ленинградскими товарищами,
которые стали теперь моими противниками.
Я увидел Юрия Дуганова, Валентина Конных,
Виля Холина. Холин и стал на этом
соревновании моим основным противником.
Результаты, показанные мной, оказались ниже
тех, к которым я стремился. Жим — 115 кг,
рывок — 120 кг, толчок — 150 кг.
И сумма была всё той же, знакомой мне, — 385 кг.
Этого оказалось достаточно, чтобы победить
Холина, но задачу свою я не выполнил —
рубеж в 400 кг так и не был взят.
На соревнованиях в Тбилиси впервые
участвовали спортсмены не шести весовых
категорий, как это имело место до тех
пор, а семи: была введена новая категория
атлетов полусреднего веса.
Атлеты, выступающие в этой категории, должны
иметь вес от 67,5 до 75 кг
включительно. Таким образом, прежние полутяжеловесы
стали средневесами (от 75 до 82,5 кг).
Категория спортсменов полутяжёлого веса, в свою
очередь, получила границы от 82,5 до 90 кг
включительно, а в тяжёлую категорию вошли все
те, кто имел вес выше 90 кг. Таким образом,
я, раньше выступавший большей частью в
полутяжёлом весе, теперь перешёл в
средневесы. Главным моим противником отныне
стал один человек — Аркадий Воробьёв.
На новом рубеже
Я вернулся в Москву полным противоречивых
чувств. С одной стороны, меня радовала
победа над Холиным, а с другой — огорчало
то, что за три года упорной работы мне
ещё ни разу не удалось показать рекордный
результат.
Начав тренировки, я ещё упорнее стал
стремиться к решению той задачи, которую
мне так и не удалось выполнить в Тбилиси.
Через два месяца я снова встретился с
Аркадием Воробьёвым на соревновании
сильнейших штангистов страны.
Воробьёв оказался отлично подготовлен, хотя
и не очень говорил о своих успехах. О
Париже мы с ним тоже не вспоминали, и
только однажды, гуляя по Москве, я спросил
Аркадия:
— Как выглядит Стенли Станчик?
Воробьёв пожал плечами и сказал:
— Видный парень, хорошо сложён, сильный,
резкий, но жмёт не чисто.
— А каков он? — допытывался я.
— Русый. Говорят, что на конкурсе красоты
получил первый приз, — ответил Аркадий. — А
так что к этому прибавить? Ростом с меня.
Немножко говорит по-русски. Родом он из
Польши. Когда мы с ним кончили борьбу,
похлопал меня по плечу и сказал: "Сильный".
Я громко рассмеялся, и Воробьёв удивлённо
посмотрел на меня. Пришлось ему рассказать,
каким я представлял себе Стенли Станчика:
рыжеволосым и веснушчатым. А он, оказывается,
чемпион конкурсов красоты!
Меня интересовало, чем занимается Станчик
в Америке, но тут Воробьёв удовлетворить
моё любопытство уже не мог. Он сказал
только, что все штангисты американской
команды работают у Боба Гофмана. Это их
хозяин, "босс", как они говорят. Он
какой-то заводчик и издатель
журнала "Сила и здоровье".
Воробьёв видел в Париже несколько номеров
этого журнала: яркая обложка, на которой
изображён какой-нибудь напрягший мышцы
красавец, на первой странице фотография
Гофмана и его статья. И ещё различные
рекламы: трусиков, "эмбрикейшн", как
называют в Америке жидкость для размягчения
мышц, оборудования тяжелоатлетических залов
и т.д.
— Боб Гофман мне очень не понравился, —
сказал Аркадий. — Не хочется о нём и
говорить. Наверное, держит ребят в кулаке,
выжимает из них всё до последней капли, а
потом выбрасывает на улицу. Кого мне
особенно жаль, так это Дэвиса. Какой
замечательный штангист! Он ещё молодой. А
посмотрел я на него и подумал: "Что ждёт
тебя в будущем, парень?"
— Ну и что же его ждёт в будущем? —
заинтересовался я.
— А то же, что и Джо Луиса. Как гремел этот
человек! Одиннадцать лет подряд выигрывал
мировые первенства по боксу в тяжёлом весе.
Портреты в газетах, слава, высокие гонорары...
Но когда он, почувствовав, что стареет, сошёл
с ринга непобеждённым и попробовал жить на
свои сбережения, его вынудили вернуться в
спорт. Видишь ли, с уходом Луиса дела
спортивных дельцов пошатнулись. Интерес к
боксу упал. И, чтобы поднять его, Джо Луиса
заставили встретиться с его же учеником
Эззардом Чарльзом. И тот жестоко побил Луиса
в пятнадцатом раунде... Это я в Париже узнал.
Больше мы с Воробьёвым к парижским событиям
не возвращались. Все наши мысли были
направлены не в прошлое, а в будущее, в
наше ближайшее будущее, когда мы шагнём
навстречу рекордам.
После этого мне много раз приходилось вести
борьбу на тяжелоатлетическом помосте —
побеждать, терпеть поражения, радоваться и
огорчаться, — но та февральская встреча на
матче сильнейших в Москве навсегда врезалась
в мою память.
Мы с Аркадием снова были рядом, снова после
долгого перерыва состязались в силе и
ловкости.
В жиме мне удалось выполнить мой "контрольный"
результат: я выжал 120 кг. И в рывке в третьем
подходе мне удалось осуществить своё давнее
желание — поднять 125 кг.
Но вот на помост вышел Аркадий. На штангу
поставили 133 кг, вес нового
мирового рекорда. И Воробьёв поднял штангу.
В такой момент забываешь о том, что ты побит,
что успех товарища является твоим поражением.
Забываешь обо всём, охваченный радостью и
удивлением. И когда Воробьёв опустил штангу,
я бросился его обнимать, а Аркадий стоял
растерянный и усталый.
То, что произошло дальше, бывает в каждом
виде спорта. Когда лидер развивает рекордную
скорость, этот порыв увлекает за собой
соперников.
В толчке мне удалось на второй попытке
поднять 157,5 кг. Это был мой личный рекорд,
вес, к которому я уже давно стремился. Но
когда я положил штангу на помост, мой тренер
предложил мне взвеситься.
Дело в том, что в тех соревнованиях я
выступал в среднем весе, как говорится, на
пределе. Несколько сот лишних граммов
передвинули бы меня в следующую категорию —
полутяжёлую. И когда я встал на весы, стало
известно, что я на самом деле на 400 граммов
превышаю весовую категорию средневесов.
Это неожиданное обстоятельство превратило
мой личный рекорд в толчке в рекорд всесоюзный,
так как после установления новой весовой
категории в полутяжёлом весе
результата 157,5 кг ещё никто не показывал.
До сих пор я привык к мысли, что лишние
граммы собственного веса всегда грозят
поражением. Ведь именно поэтому Воробьёв
должен был уступить первенство Стенли
Станчику.
Теперь же несколько сот лишних граммов
принесли мне большой успех: мне впервые
удалось вписать своё имя в таблицу
всесоюзных рекордов. И это так вдохновило
меня, что я тут же потребовал поставить
на штангу 160 кг. Ещё один толчок — и над
информационным щитом вспыхнули три
красные лампочки. Судья торжественно
объявил:
— Вес взят!
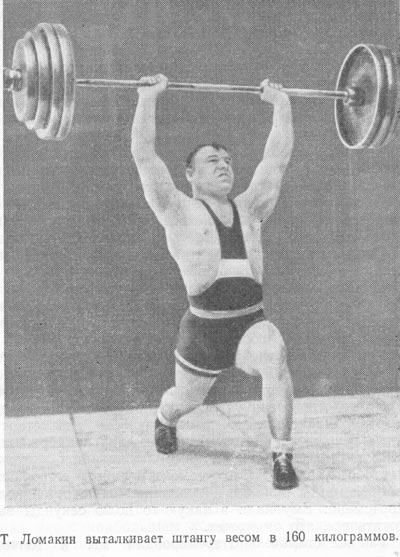
Сколько лет я ждал этого момента, и вот в
течение нескольких минут мне удалось два
раза улучшить рекорд.
Вместе с новым рекордом пришла ещё одна
долгожданная победа. Наконец-то мне
удалось увидеть в судейском протоколе против
своей фамилии число "400". Так же как и
Аркадий, я поднял 405 кг.
Впервые я стоял с Воробьёвым рядом, но
— увы! — недолго. Лишние 400 граммов
моего веса обернулись теперь против меня.
Воробьёв был легче, и поэтому он занял
первое место, а я — второе.
Приняв душ и сложив свои спортивные костюмы
в чемоданчики, мы с Аркадием вместе вышли
на оживлённые улицы Москвы.
Мы шли рядом и обсуждали только что
закончившееся соревнование. Оно принесло
много неожиданностей. Хорошие результаты
показали молодые, дотоле малознакомые нам
штангисты — Борис Журомский, Хаим
Ханукашвили, Бакир Фархутдинов. Николай
Саксонов, мой товарищ по спортивному
обществу, установил мировой рекорд в рывке
для атлетов полулёгкого веса. Он
поднял 105,5 кг, улучшив таким образом
на 500 граммов результат египтянина Файяда.
Отлично показал себя на матче сильнейших
молодой легковес Александр Никулин.
— Да, растёт молодёжь, — сказал Воробьёв.
А я невольно подумал о том, что ведь
совсем недавно и мы с ним тоже считались
молодыми, а теперь стоим уже в ряду
первых силачей страны. Но для того чтобы
удержаться в этом ряду, нам надо было
упорно работать, совершенствовать своё
мастерство.
Двигаться вперёд мне помогал мой новый
тренер Израиль Бенционович Механик. Опыт у
него был огромный, глаз такой же меткий,
как у Алексея Михайловича Жижина. И я с
удовольствием занимался с ним.
Просмотрев мой тренировочный план и
расспросив меня о методах моей работы,
Механик согласился со всем. Но после первых
же занятий откровенно высказал мне своё
мнение, не считая нужным ничего скрывать.
— Силы у тебя много, — сказал Израиль
Бенционович, — но до конца использовать эту
силу ты ещё не умеешь. Главный твой
недостаток — слабый жим. А что такое жим,
тебе объяснять нечего: сам понимаешь — это
основа всего. И тяги тебе не хватает.
Поэтому в толчке ты недобираешь. Вот моё
предложение: работаем над жимом, добиваемся
правильного выхода под штангу, тренируем
толчковую тягу.
И хотя после того, как мне удалось собрать
сумму 405 кг, я по праву мог считать себя
уже опытным штангистом, я поверил Израилю
Бенционовичу и полностью согласился с его
замечаниями.
Так началась учёба, кропотливая, не терпящая
никаких послаблений. Как новичок, разучивал
я первое движение троеборья — жим. Много
раз подходил к штанге, много раз учился
поднимать вес на грудь. В этом движении
имеются как бы два старта. Когда вес уже
покоится на груди, едва поддерживаемый
расслабленными руками, начинается второе
стартовое усилие. В этот момент в работу
включаются все мышцы рук, плеч, туловища,
включается воля спортсмена. Ему надо в
какую-то долю секунды выложить всё, что он
может.
Столь же старательно тренировали мы и
толчок, "подрыв" штанги, тягу.
Израиль Бенционович внимательно приглядывался
ко мне и однажды сказал:
— Знаешь, Трофим, за рывок я не беспокоюсь.
Это движение тебе явно по нутру. Реакция у
тебя быстрая. Ты умеешь мгновенно собраться.
И толчок тебе подходит, потому что ты
трудолюбив, действуешь не слепо, обдумываешь
каждое своё движение и не жалеешь сил. Вот
какой разносторонний у тебя характер. Но
если ты освоишь ещё и жим, то станешь
настоящим троеборцем.
Я удивился такому определению моего
характера. Ведь мы с Израилем Бенционовичем
занимались всего считаные дни. После этого
я стал верить своему тренеру ещё больше и
не ошибся. Я очень быстро вошёл в отличную
спортивную форму и почувствовал, что подхожу
к новым высоким рубежам.
Проверить всё это мне предстояло в Берлине
на XI Всемирных студенческих играх, которые
должны были состояться в августе на
Фестивале молодёжи.
31 июля наша команда штангистов — Бакир
Фархутдинов, Рафаэл Чимишкян, Иван Соломаха,
Александр Мозжерин, Аркадий Воробьёв, я и
Алексей Медведев — встретились на платформе
Белорусского вокзала.
Вместе с нами на Фестиваль уезжали
представители почти всех видов спорта,
молодые артисты, рабочие, трактористы,
комбайнёры, студенты, писатели.
Сколько было приветствий и улыбок! Наш
главный тренер Николай Иванович Шатов сбился
с ног, устраивая нас с наибольшим комфортом.
Ведь предстоял долгий путь, и его беспокоило,
не выйдем ли мы из формы, не наберём ли
лишний вес.
Под гром оркестра, провожаемые взмахами сотен
платков и шляп, почти заваленные букетами,
отправились мы в наше путешествие.
Провожая взглядом Москву, я стоял у окна
вагона рядом с Аркадием Воробьёвым. На душе
было радостно от мысли, что я увижу
незнакомые места, встречусь с новыми людьми,
испытаю свою силу в борьбе со штангистами
многих стран.
— Давай споём, Аркадий, — предложил я.
— На спор, кто лучше? — спросил Воробьёв. —
Как в Воронеже?
— А судить нас кто будет? — рассмеялся я.
— А давай Николая Ивановича позовём, —
предложил Аркадий. — Или, если хочешь,
судейскую коллегию соберём.
— Нет уж, давай не будем позориться, —
сказал я. — Споём так, для тренировки.
И мы затянули любимую песню Аркадия
"Раскинулось море широко...".
Мы ехали в Берлин. В демократический Берлин,
где собиралась прогрессивная молодёжь всех
стран мира для того, чтобы поднять свой голос
против войны, которую готовили поджигатели
новой мировой бойни. Как же нам было не
радоваться, как же нам было не петь! Ведь
ещё совсем недавно слово "Берлин" было
неразрывно связано с самыми тёмными силами
войны. А теперь нас там ждали друзья мира.
Промелькнули последние метры родной земли и
скрылись позади. Польша встретила нас
толпами молодёжи. На перронах вокзалов
юноши и девушки громко и дружно
скандировали: "Ста-лин, ком-со-мол!",
"Ста-лин, ком-со-мол!",
"Ста-лин, ком-со-мол!"
С жадностью следил я за всем, что возникало
перед моими глазами. Селения и города,
непривычный, рассечённый на лоскутья рисунок
полей, люди, говорившие на незнакомом языке,
— всё привлекало моё внимание. Даже воздух
казался каким-то другим.
Мы ехали весело. Вспоминали прошлые встречи
на тяжелоатлетическом помосте, делились
своими планами, надеждами. Вели долгие
разговоры с товарищами по вагону —
легкоатлетами, баскетболистами. Мы
интересовались их успехами, секретами их
мастерства, а они, в свою очередь,
расспрашивали нас.
Мы проехали Польшу, и в окнах показалась
Германия с её ровными шоссе, обсаженными
фруктовыми деревьями, с аккуратными домиками
крестьянских ферм.
Остановка во Франкфурте — и вот наконец
перед нами Берлин. Мы приехали туда под
вечер и еле протиснулись на переполненный
перрон.
Советскую делегацию встречала молодёжь всех
стран мира. Сколько было разных лиц!
Сверкающие зубы негра, плечистая фигура
молодого шведа, картавая речь француженки,
обнимавшей Воробьёва...
Когда мы вышли из здания вокзала, то невольно
остановились. Площадь была полна народу,
который встречал нас — советскую молодёжь.
Для команды штангистов подали автобус. Наш,
такой привычный, московский курносый автобус,
на котором я столько раз ездил на работу и на
тренировки. Но за окнами раскрывались картины
незнакомого города, ещё хранившего следы боёв.
Мелькали развалины, аккуратно сложенные
штабеля кирпича, недостроенные и новые дома.
Наша делегация остановилась в Лесотехнической
академии. Устроившись, мы отправились
осматривать город, новый стадион, возведённый
к открытию Фестиваля берлинской молодёжью.
В Берлине в эти дни всё дышало праздником.
Дома́ были расцвечены флажками, плакатами,
лозунгами. Тротуары заполняла разноплемённая и
разноязыкая толпа, в которой никто не
чувствовал себя чужим.
К нам подходили люди из самых разных стран,
чтобы пожать нам руки, обнять, и мы не
чувствовали затруднения, не понимая обращённых
к нам слов. Мы понимали друг друга, мы
общались с алжирцами и вьетнамцами,
англичанами и бельгийцами, бразильцами и
голландцами так же уверенно, как говорили
друг с другом.
В глазах рябило от пёстрых необычных нарядов,
от улыбок. То там, то здесь слышались песни.
На площади группа немецкой молодёжи начала
исполнять "Песню о Сталине" на русском языке.
Эту песню подхватили корейцы и испанцы...
Мы бродили по улицам Берлина до позднего
вечера, а, вернувшись домой, были встречены
строгой нотацией Николая Ивановича Шатова.
— Режим, режим и ещё раз режим, — выговаривал
нам Николай Иванович. — Не забывайте, что
через неделю нам выступать.
Пришлось покориться и ограничить наши
прогулки по Берлину — этому ликующему,
поющему городу.
— Вот как будет выглядеть мир при коммунизме,
— сказал мне как-то Аркадий, —
когда больше не будет границ, когда больше не будет
вражды и войн.
А пока за Бранденбургскими воротами, совсем
рядом, начинался другой мир. Мы видели
штуммовских полицейских 1,
американских солдат, вразвалку шагавших по улицам,
каких-то господ в котелках.
Наступило 6 августа — день торжественного
открытия Фестиваля. Как описать стадион
имени Вальтера Ульбрихта, на котором
собрались 26 тысяч юношей и девушек,
представители пяти континентов, приехавшие
в Берлин для того, чтобы провозгласить
"Мир — миру, война — войне"? Этот лозунг,
повторённый на десятках языков, виднелся
всюду. Десятки тысяч голосов скандировали
одну и ту же фразу: "Дружба — мир!",
"Дружба — мир!" И этот голос молодого
человечества был, конечно, слышен в Западном
Берлине. Да и только ли в Западном Берлине?
Нет, его слышала вся Германия, рассечённая
американцами на две части. Его слышали
во Франции и в Англии, к нему прислушивались
по ту сторону Атлантики. Вот о чём я думал,
стоя во главе белорусской делегации: мне
была доверена честь нести знамя
Белорусской ССР.
Отзвучали слова приветственных речей. В
воздух взвились тысячи голубей. Начался
торжественный марш молодых борцов за мир.
Первой шла молодёжь Албании. Затем пошли
австралийцы, англичане, китайцы, французы,
итальянцы. В одном строю двигались сирийцы,
иранцы, египтяне, юноши и девушки с
Гваделупы, американцы. Потом пришёл и наш
черёд. И когда советская делегация
появилась перед трибунами стадиона, нас
встретили единым тысячеустым приветом: "Да
здравствует комсомол! Дружба!"
Как хотелось мне посмотреть со стороны на
движение нашей колонны. Какое это,
наверное, было красивое, внушительное
шествие! Но я не мог увидеть, как мы
выглядим со стороны, потому что сам шагал
в строю, поднимая кверху красное знамя.
Так начался Фестиваль. И все его дни слились
в моей памяти в одно яркое, сверкающее всеми
красками радуги, неразделимое целое. Сейчас
уже невозможно вспомнить, что мы видели
раньше: блестящую ли игру наших
баскетболистов или выступление чешских
гимнастов, танцы японцев или бурную пляску
мексиканцев? Мы слушали песни, звучавшие то
мелодично и протяжно, то резко и стремительно.
Мы слушали музыку, нёсшую на своих волнах
негритянскую грусть, и задорные мелодии
румынских напевов. Мы ходили по выставкам,
слушали выступления Пабло Неруды и
восторгались "Последней песней" греческого
поэта Янопулоса.
На конкурсе стихов, который проводился на
Фестивале, поэма Костаса Янопулоса, так
скорбно названная им, получила первую премию.
Но её автора не было с нами в Берлине. Его
казнили в ту ночь, когда он дописал последние
строки своей "Последней песни".
XI Всемирные студенческие игры, новая,
незабываемая по яркости, по силе впечатлений
страница Фестиваля, в которую и мы, советские
спортсмены, вписали свои строки,
начались 7 августа на стадионе имени Вальтера
Ульбрихта соревнованиями легкоатлетов. Пока
не настал наш черёд, мы, штангисты, были
ярыми болельщиками. Мы восторгались
быстротой бегунов, силой метателей, ловкостью
прыгунов. Один за другим поднимались на
пьедестал почёта наши товарищи Владимир
Сухарев, Владимир Казанцев, Иван Семёнов, Нина
Пономарёва и другие. Успешно проходили
выступления советских боксёров и борцов,
а 10 августа на помост в цирке Берлаи наконец
вышли и мы.
Путь к победе показал нам Бакир Фархутдинов.
Затем первое место завоевал Рафаэл Чимишкян.
Больше всего мы волновались за Ивана Соломаху
и Александра Мозжерина: они впервые выступали
на крупных соревнованиях. Но показали, что их
не зря включили в команду.
Аркадий Воробьёв занял первое место в
среднем весе, я — в полутяжёлом. В
противоборстве с сильнейшими тяжеловесами
многих стран звание чемпиона студенческих
игр завоевал наш молодой товарищ Алексей
Медведев. Итак, все семь первых мест
остались за нами.
Но на этом наши выступления не закончились.
Через несколько дней мы снова вышли к
штанге. Проводились показательные выступления.
И здесь в Берлине неожиданно прошёл следующий
этап моей борьбы с Аркадием Воробьёвым.
На сей раз мы оба выступали в полутяжёлом
весе. Когда начались соревнования по толчку,
зрители, до отказа заполнившие цирк, стали
свидетелями удивительных событий. Воробьёв
толкнул штангу весом 162,5 кг и побил
принадлежавший мне всесоюзный рекорд. Но я тут
же улучшил этот результат на пятьсот граммов.
И тогда Аркадий толкнул 165 кг. Не успевали
замолкнуть аплодисменты, приветствовавшие
победу одного из нас, как овация вспыхивала с
новой силой.
Да, недолго простояло моё имя в таблице
всесоюзных рекордов. В первый раз — пять
месяцев, во второй раз — две минуты. Но я не
огорчался. Я уже знал, что каждый новый успех
Воробьёва — это в зародыше и мой успех.
Передо мной появлялась новая цель, к которой
я тут же начинал стремиться.
Соревнования закончились, и нас снова захватил
весёлый круговорот Фестиваля. Но праздник
подходил к концу. Уже были вручены призы
танцорам, певцам, музыкантам. Главный приз
мира был присуждён советской делегации. Уже
прошло факельное шествие по улицам Берлина,
и 19 августа на площади Маркса-Энгельса
участники Фестиваля дали клятву быть верными
делу мира и вместе с десятками тысяч берлинцев
спели Гимн демократической молодёжи.
Клятва на площади и слова песни, написанной
русским поэтом и русским композитором,
прозвучали как призыв к борьбе за мир. К
борьбе, необходимость которой особенно остро
ощущалась нами здесь, в Берлине. Ведь
американские оккупанты всеми силами пытались
сорвать Фестиваль. Они не пускали к нам
молодёжь Западной Германии, они задержали на
аэродроме стремившуюся к нам молодёжь Австрии.
Они набросились с дубинками на молодых немцев
из восточной зоны Германии, когда те пришли
с согласия властей Западного Берлина на его
улицы. Мы видели в больнице наших раненных и
избитых друзей.
Весь обратный путь на Родину я старался
разобраться в своих впечатлениях о Фестивале.
И, вспоминая подробности нашего пребывания в
Берлине, я окончательно убедился в том, что
спорт является могучим средством в борьбе за
мир, за дружеское общение между народами.
Наши успехи вызывали у спортсменов других
стран не раздражение, а большую симпатию,
возраставшую по мере нашего знакомства с
ними. Они видели в нашем мастерстве силу
Советской страны. Они видели своими глазами,
какие блага даёт эта страна своему народу,
какой любовью и заботой окружает она молодёжь.
Значит, надо, не жалея сил, стремиться к
совершенствованию, не останавливаться на
достигнутом, смело преодолевать всё новые и
новые рубежи.
Станчик рядом
И вот снова Москва. Белорусский вокзал.
Площадь, заполненная приветствующей нас
молодёжью.
Первые дни после возвращения прошли в беседах
с друзьями. Все они, мои сослуживцы и
товарищи по спорту, хотели знать о том, как
прошёл Фестиваль, что интересного я на нём
увидел. Всех волновал один вопрос: как вели
себя в Берлине американцы? И мой рассказ о
немецких юношах и девушках, избитых и раненных
в западной части города, вызывал большое
возмущение. А сам я новыми глазами смотрел на
всё — на Москву, на наш спортивный зал, такой
светлый и удобный, на людей, встречавшихся
мне на улице, для которых дубинки полицейских
и кастеты хулиганов были совершенно
абстрактными понятиями. А потом потекла
привычная для меня жизнь — работа в штабе,
тренировки, встречи с друзьями.
Вскоре после возвращения из Берлина мне
пришлось побывать в Киеве. Там я встретился
с Яковом Григорьевичем Куценко. Мы сидели с
ним над Днепром, любуясь широким разливом
могучей реки, и беседовали о моей поездке
в Германию.

— Когда выступаешь за рубежом, то чувствуешь
себя совсем иначе, чем на Родине, — сказал
Яков Григорьевич. — Откуда только силы
берутся! Недаром нашим ребятам так часто
удаётся показывать рекордные результаты именно
во время заграничных поездок. Но ты ещё не
знаешь, что такое выступать за рубежом...
— Как не знаю? А Германия? — спросил я.
— Это не то, — ответил Куценко. — Там так же,
как и в Чехословакии, Румынии, Венгрии ты
чувствуешь себя среди друзей. А вот когда тебе
придётся выйти к штанге в Париже, в Милане или
в каком-нибудь другом западноевропейском городе,
тогда ты и поймёшь разницу.
— А в чём она, Яков Григорьевич? — спросил я.
— Я тебе сейчас попробую объяснить. Вот взять
хотя бы нашу поездку на первенство мира в Париж
в 1946 году. Мы прибыли и устроились в
гостинице. И вдруг узнали: нашей команды нет в
списках участников. Завтра выступать, а нам
говорят, что прежде чем Международная Федерация
гиревиков не примет нас в свои ряды, выступать
мы не будем.
Мы всю ночь волновались: дадут или не дадут
нам выйти на помост? Только утром узнали — нас
приняли в Международную Федерацию. Но зато
сразу же последовало другое огорчение: поскольку
мы раньше не являлись членами Федерации, то все
наши двадцать пять мировых рекордов были
аннулированы. Всё нужно было начинать заново.
Вот и попробуй беречь нервную энергию перед
соревнованием в такой обстановке...
Но это ещё не всё. Мы явились во дворец Шайо и
стали искать себе место для разминки. Но вдруг
обнаружили, что такого места просто нет.
Оказывается, разминаться было не принято: для
разогрева мышц все употребляли специальные
жгучие растирки, которые у американцев
называются "эмбрикейшн". А газеты вышли в тот
день с заголовками: "Посмотрим, равен ли
русский килограмм французскому?", "Увидим, на
что способны русские..."
Это была непривычная, почти враждебная
обстановка. Шли какие-то секретные переговоры
между американцами и египтянами, всюду слышалась
незнакомая речь, приходилось следовать
незнакомым обычаям. И никто ничего не собирался
нам объяснить. Чувствовалось, что каждый из
иностранных господ только и ждёт, когда же мы
промахнёмся...
Мы разглядывали известных нам по печати атлетов.
Вот мой молодой соперник Дэвис, вот знаменитый
египтянин Туни, вот Станчик.
После торжественной части вдруг объявили:
сегодня все свободны, кроме штангистов
полулёгкого веса. Почему? Это же значило,
что на следующий день должны будут выступать
спортсмены сразу всех шести весовых
категорий. Когда же закончатся такие
соревнования?
Мне долго пришлось ждать своей очереди —
целых восемь часов. Сколько было волнений!
Только в три часа ночи штангисты тяжёлого
веса вышли наконец на помост. А за кулисами
всё время оглушительно кричали египтяне,
толпились американцы, пили свою кока-колу и
глотали какие-то пилюли. Дыхание у нас
спирало от едкого запаха "эмбрикейшн". Но
мы должны были преодолеть всё, что нам
мешало, потому как отвечали не за себя, а
за всю нашу страну.
Конечно, мой противник Дэвис был достаточно
опасен для меня и в самой благоприятной
обстановке: на его стороне было преимущество
молодости и исключительные физические данные.
Но я всё же нашёл в себе силы, проигрывая
Дэвису после двух движений, обогнать его в
толчке.
Да, несмотря на все трудности, мы заставили
французские газеты признать на следующий день,
что "в русском килограмме ровно тысяча
французских граммов". Призадумались и
американцы с египтянами. Ведь наша команда
как-никак потеснила египетских атлетов,
считавших себя сильнейшими в мире. Мы заняли
второе место. Но парижская поездка показала,
что двигаться вперёд надо ещё быстрее, что
американцы зря времени не теряют.
Неудачно мы выступили и на следующем
проходившем в Париже первенстве 1950 года.
Хотя уже знали, каково выступать во дворце
Шайо. Да, надо копить силы, Трофим, надо не
терять ни дня, — нам ещё предстоят встречи с
американцами. И мы должны взять у них реванш.
Куценко замолчал. Молчал и я. Меня покорило
то, что самый сильный в стране человек смело
признаётся в своих слабостях и вместе с тем
горячо верит не только в свою силу, но и в
силу всех нас, его товарищей.
— Надо больше работать, Трофим, — повторил
Яков Григорьевич. — Мне уже не придётся
защищать честь нашей Родины, годы не те. Но
ты, Аркадий Воробьёв, Рафаэл Чимишкян, Иван
Удодов ещё не сказали своего последнего
слова.
— Чем же мне надо заняться в первую очередь,
Яков Григорьевич? — спросил я Куценко.
— По-моему, тебе надо целенаправленно
работать над толчком, — ответил Куценко.
— В толчке атлет в наибольшей мере может
проявить свою силу. Как бы ни были высоки твои
результаты в жиме и рывке, они не дадут
рекордной суммы, если толчок у тебя будет
отставать. Здесь у тебя с Воробьёвым намечается
самая острая борьба. Вспомни ваше выступление
в берлинском цирке.
Я невольно улыбнулся.
— Разве я могу хоть на минуту забыть о том,
что там произошло!
— Помнить мало — надо делать для себя выводы.
В толчке у тебя много погрешностей, потому ты
и проигрываешь Воробьёву.
Я сказал Якову Григорьевичу, что согласен с
ним, что то же самое говорил мне и Механик.
— Перед твоими глазами всегда должен
стоять рекордсмен мира в среднем весе француз
Феррари, толкнувший сто шестьдесят девять
килограммов, — продолжал Куценко.
Я согласился с Яковом Григорьевичем, но
добавил, что, по мнению Механика, прежде
всего мне необходимо подтянуть жим. Без жима,
который у меня всё ещё отстаёт, высокого
результата в троеборье не покажешь.
— Вот и выходит: нос вытащишь —
хвост увязнет, хвост вытащишь — нос
увязнет, — сказал я со вздохом.
— Ну что же, это тоже правильно, —
согласился со мной Куценко. — Против
цифр не пойдёшь. И всё же, вспомнишь моё
слово, главный успех ждёт тебя в толчке.
Мы замолчали, любуясь Днепром, весёлым
оживлением на пляжах. Куценко о чём-то
глубоко задумался.
— О чём вы думаете, Яков Григорьевич, если не
секрет? — спросил я.
— Нет, Трофим, это не секрет, — ответил
Куценко. — Мне сейчас приём в Кремле
вспомнился. Может быть, знаешь, что после
физкультурного парада 1947 года нас, его
участников, пригласили в Кремль на встречу
с руководителями партии и правительства. А
я как раз накануне на стадионе "Динамо"
установил мировой рекорд в толчке. Помнишь
об этом?
— Ещё бы, конечно, помню...
— Ты, может, и на стадионе был?
— Нет, Яков Григорьевич. Я в то время на
Южном Сахалине служил и как раз в том
году впервые вошёл в спортивный зал.
— Ну вот, а я в том году вошёл в Георгиевский
зал вместе с сильнейшими спортсменами страны.
Увидел товарища Сталина совсем рядом, увидел
его соратников — товарищей Маленкова,
Молотова, Ворошилова, Булганина. Вот тогда-то
я и понял, как внимательно следят за нашими
результатами руководители страны, какое
значение они придают спорту.
Вячеслав Михайлович Молотов поздравил нас с
успехами. И когда мне первому предоставили
слово, я испытал такой восторг, ощутил в
себе такую силу, что, казалось, был в
состоянии поднять земной шар. Подходя к
микрофону, я ещё не знал, о чём буду говорить,
но был уверен, что слова найдутся — самые
нужные, самые правильные слова.
— И что же вы сказали, Яков Григорьевич? —
спросил я.
— Я сказал, что советские спортсмены благодарны
партии и правительству за заботу о развитии
физической культуры и спорта в нашей стране.
Что наша страна передовая во всех отношениях, и
спорт у нас тоже должен быть передовым. Я
поднял бокал за новые успехи в предстоящих
международных встречах. И пообещал партии и
правительству, что все задачи, возложенные на
нас, мы выполним.
Куценко немного помолчал, а потом продолжил:
— Вот я тогда дал обещание, а мы после этого
проиграли и американцам, и египтянам. Гнетёт
меня это, Трофим, очень гнетёт... Об одном
думаю: надо копить силы, готовиться к новой
борьбе...
Слушая Якова Григорьевича, я представлял
себе озарённый огнями Георгиевский зал Кремля
и думал о том, что хоть я и не был там, не
хотел в то время и к штанге подходить, но всё
равно несу ответственность за слова
правофлангового советских штангистов,
коммуниста Куценко.
После той беседы в Киеве с Яковом Григорьевичем
прошло несколько лет, а я всё в ней отлично
помню. Тот разговор запал мне в душу. И когда,
вернувшись в Москву, я узнал, что наша команда
поедет в Австрию, где будет проводиться
месячник советско-австрийской дружбы, то с
удесятерённой энергией приступил к тренировкам.
В те дни, когда наша команда, в которую входили
Бакир Фархутдинов, Николай Саксонов, Владимир
Светилко, Владимир Пушкарёв, Аркадий Воробьёв,
я и Яков Григорьевич Куценко, готовилась к
поездке в Австрию, в Милан съехались сильнейшие
штангисты всех стран на розыгрыш первенства
мира. Должна была приехать в Италию и
команда США.
Мы понимали, что поскольку на этот раз не
участвуем в чемпионате мира, американцам первое
место обеспечено на нём без особой борьбы — но
всё же с нетерпением ждали результатов, которые
покажут наши главные противники. И каждый из нас
готовился к поездке в Вену так, словно там нам
предстояло встретиться со Станчиком, Дэвисом и
Шеманским.
Настал час отправления. Вторая команда советских
штангистов направилась в Польшу. Советские
спортсмены в то время выступали во многих
странах: в Албании футбольная команда "Спартак",
в Болгарии "Шахтёр", в Польше "Динамо", в
Румынию поехали советские борцы. Крепла
дружеская связь спортсменов Советского Союза
со спортсменами стран народной демократии.
А мы улетали в Вену, в капиталистическую Вену.
Нас пригласили члены Общества
советско-австрийской дружбы — но и враги этой
дружбы наверняка находились где-то рядом. По
нашему выступлению они собирались судить о
силе СССР. Я понимал всё это и
тренировался с большой энергией.
18 октября мы оторвались от московского
аэродрома и, переночевав во Львове, в три часа
следующего дня уже стояли на австрийской земле.
"Вот и чужая земля", — думал я, шагая к автобусу
вместе с товарищами и со встречавшими нас
представителями Общества советско-австрийской
дружбы. На душе было тревожно, как в тот день,
когда я с чемоданчиком в руке выходил из
кабинета Александра Васильевича Бухарова,
узнав о нашей неудаче в Париже.
Мы ехали по широким зелёным улицам, мимо
дворцов, мимо музеев. Вот и Рингштрассе, —
крикливые, в американском духе, рекламы,
суетливая пёстрая толпа на тротуарах, нарядные
витрины магазинов.
В гостинице нас уже ждали представители рабочих
завода "Сименс-Шуккерт", на котором мы должны
были выступить в тот же день.
Сколько приветливых, радостно улыбавшихся людей
встретило нас в зале, сколько было горячих
аплодисментов, рукопожатий! С большим интересом
следили австрийские рабочие за каждым нашим
движением. В Австрии тяжёлая атлетика пользуется
большой популярностью. Как раз в то время
команда венцев выступала на первенстве мира
в Милане.
Один за другим выходили мы на сцену, вызывая
бурю аплодисментов. Обстановка была настолько
доброжелательной, она так воодушевила меня,
что совершенно неожиданно мне удалось
осуществить своё давнее желание: я поднял 165 кг.
И грохот штанги, опущенной мною, был заглушён
грохотом аплодисментов.
Нас провожали до самого автобуса, расспрашивали,
как мы тренируемся, имеются ли у нас специальные
помещения. Когда мы рассказывали о своих
великолепно оборудованных залах, молодые рабочие
только удивлённо ахали. В Вене спортивных залов
почти не было, и любители тяжёлой атлетики
использовали для занятий любой закоулок.
Близкое знакомство с Веной не порадовало меня.
Грустен был этот прекрасный город, несмотря
на оживление на центральных улицах и большое
количество американских и английских машин.
Нас поражала пустота в парках, в музеях,
какой-то угнетённый вид жителей. А знаменитый
Венский лес оказался совсем другим, непохожим
на романтический, пронизанный солнцем парк,
показанный в фильме "Большой вальс".
Через несколько дней после нашего приезда
в Вене начал заседать Всемирный совет мира.
И тут мы увидели австрийцев, сплотивших
свои ряды в борьбе с угрозой войны,
заполнивших стотысячной толпой площадь перед
зданием, где собрались борцы за мир всех
стран земного шара.
Первенство мира в Милане закончилось, как
мы и думали, победой американцев. Но лично
я получил большое удовлетворение, узнав,
что Стенли Станчик, выступавший в среднем
весе, поднял всего 402,5 кг — на 2,5 кг
меньше, чем я в Москве. Это вселяло в меня
уверенность, что я смогу побить Станчика.
И мы с Аркадием, изучая газетные отчёты,
много говорили об этом.
Вдруг мы узнали, что вместе с австрийской
командой в Вену приедет и команда США.
Это сообщение очень взволновало меня. Итак, я
буду иметь возможность увидеть американцев,
смогу посмотреть, как работает со штангой
Станчик.
Какая удача! Американцы должны были провести
матч с австрийскими штангистами, а мы в роли
зрителей могли спокойно изучить все их
сильные и слабые стороны. Мы возбуждённо
обсуждали предстоявший приезд наших главных
противников, и Яков Григорьевич Куценко, с
улыбкой наблюдавший наше волнение, сказал
мне:
— Ты помнишь, Трофим, наш разговор в Киеве?
Так вот, используй представившуюся
возможность. Это тебе многое может дать.
К началу матча Австрия — США вся наша команда
сидела в одной из лож концертного зала, в
котором нам тоже предстояло выступать через
несколько дней. Эти соревнования показались
мне какими-то необычными: американцы толпой
вышли на сцену, тут же разделись, окружили
помост стульями и скамейками. Они вели себя
так, словно были на очередной тренировке.
Дэвиса я сразу узнал по описанию Якова
Григорьевича Куценко. Но кто из американцев
Станчик? Мне пришлось обратиться к Аркадию,
и тот молча указал на стройного и в самом
деле красивого парня, старательно двигавшего
челюстями.
— А это кто? — продолжал допытываться я у
Воробьёва, показав на высокого важного
старика. — Это и есть Гофман?
— Он самый, — ответил. Воробьёв. — Видишь,
держится, как хозяин.
Выступление американцев не поразило меня. Их
техника не представляла собой ничего нового.
Я с нетерпением ждал выхода Станчика, но
выяснилось, что в Милане он повредил себе
ногу и здесь выступать не будет. Тут на
сцену вышел какой-то человек и сообщил, что
в зале присутствуют советские штангисты.
Все сразу обернулись в нашу сторону.
Раздались аплодисменты. Многие встали.
Когда закончились соревнования по жиму и
рывку и был объявлен перерыв, американцы
пришли к нам в ложу. Мы поднялись им
навстречу. Дэвис, сияя улыбкой, крепко пожал
руку Куценко, молодой тяжелоатлет Бредфорд
что-то говорил своим глубоким мягким басом,
ласково улыбался Дэвид Шеппард, а Станчик
уже хлопал по плечу Воробьёва и на ломаном
русском языке повторял:
— Славяне! Я тоже.
Появилось в дверях и невозмутимое лицо Боба
Гофмана, но в ложу он не вошёл и, стоя на
пороге, наблюдал всю эту картину.
Так, разговаривая жестами, заменявшими нам
слова, стояли мы в ложе, а зрители с интересом
наблюдали встречу двух сильнейших команд мира.
Аркадий спросил Станчика, доволен ли тот
своими результатами в Милане. Тот, принуждённо
улыбаясь, ответил, что победителей не судят,
и, помолчав, добавил, что на его результатах
сказалось повреждение ноги. Тут Гофман что-то
пробурчал, и американцы, попрощавшись с нами,
вернулись на сцену.
Американские штангисты не смогли увидеть
наше выступление. Оно состоялось после их
отъезда, но австрийские зрители, тренеры и
журналисты, наблюдавшие оба матча, отдали
предпочтение нашей команде. Австрийские газеты
написали, что гораздо приятнее было смотреть
на выступления советских штангистов. Они
отмечали организованность и чёткий порядок
нашего выступления, противопоставляя его
развязному поведению спортсменов США.
Но дело было не только во внешнем различии.
Большинство наших результатов оказалось выше,
чем результаты американцев. Только в трёх из
семи весовых категорий мы уступили
штангистам США.
Но и это было ещё не всё. Австрийцы стали
свидетелями установления нами двух мировых
рекордов. Саксонов, выступавший в полулёгком
весе, улучшил принадлежавший ему же мировой
рекорд, толкнув 137,5 кг. Воробьёв в рывке
сумел поднять 133,5 кг, улучшив
на 500 граммов мировой рекорд,
установленный им в начале года на матче
сильнейших штангистов в Москве. А в толчке
Аркадий поднял 168,4 кг, почти вплотную
приблизившись к результату рекордсмена мира
француза Феррари.
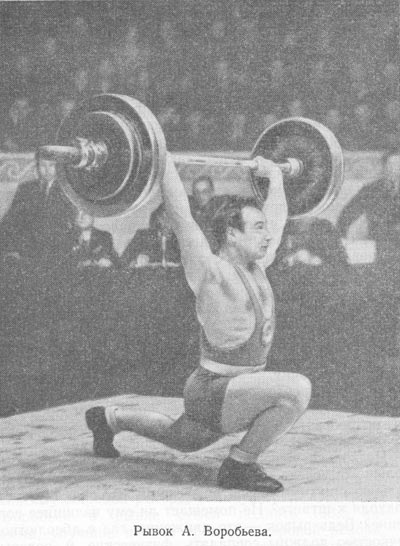
Успех Аркадия не был для меня неожиданным.
Мой товарищ говорил мне о том, что готов к
рекордным результатам, и называл вес,
который попытается поднять.
Как всегда, стараясь не пропустить ни одного
движения, следил я за его великолепными
усилиями. И, как всегда, меня переполняли
противоречивые чувства: я желал Аркадию
успеха и в то же время испытывал хорошую
спортивную зависть, так здорово помогавшую
мне и на тренировках, и на соревнованиях.
Когда я становился свидетелем новых успехов
моего друга, меня волновал всё тот же
вопрос: "А когда же я сам начну бить
мировые рекорды? Когда же настанет и мой
черёд?"
К моим чувствам примешивалось ещё и удивление.
Сколько уже раз мне приходилось бывать
свидетелем установления мировых рекордов — и
каждый раз я неизменно спрашивал себя:
"Неужели такое возможно, неужели нет предела
человеческим силам, смелому дерзанию?" И то,
что я знал о намерении Воробьёва, то, что был
посвящён в его планы, заставляло меня
волноваться ещё больше.
"Удастся ли ему?" — думал я, наблюдая за
движениями Аркадия.
Рывок Воробьёв начал со 125 кг. Легко одолев
этот вес, который являлся пока моим пределом,
он потребовал прибавить ещё 8,5 кг.
На штангу был поставлен вес, превышавший
мировой рекорд.
Несколько мгновений отделяли Воробьёва либо от
большого успеха, либо от поражения, которое
должно было здесь, в Австрии, оказаться ещё
ощутимей. Что чувствовал Аркадий, подходя к
штанге? Не мешало ли ему излишнее волнение?
Ведь рывок — это движение, где с абсолютной
точностью должны совпадать физические и
волевые усилия, где малейшая неточность
приводит к провалу.
Аркадий вышел на помост уверенно и быстро.
Только на секунду остановился он перед штангой.
Сделал ей навстречу три шага и одним усилием
поднял снаряд.
Я был восхищён и ликовал вместе со всем
переполненным залом. А когда были проделаны
необходимые процедуры и мировой рекорд стал
узаконенным фактом, я стал волноваться ещё
больше: сможет ли мой друг после только что
пережитого, после стольких усилий выполнить
то, что он задумал в толчке? Был момент, когда
мне казалось, что Воробьёву это не удастся. Он
поднял штангу на грудь, но вытолкнуть её не
смог. Зал встретил его неудачную попытку
неопределённым гулом, в котором сплетались в
одно возгласы огорчения, шиканье и смех.
Зрители, несколько минут назад объединённые
общим восторгом перед человеком, перешагнувшим
никем до него не достигнутый рубеж, снова
разделились на друзей, равнодушных и врагов.
Длинными показались мне минуты, пока Аркадий
отдыхал, прохаживаясь за кулисами. К нему
никто не подходил, чтобы не мешать ему
сосредоточиться.
Но вот Аркадий почувствовал готовность. Я знаю,
что в эти мгновенья он не слышит дыхания зала,
ничего не видит вокруг. Всё его существо было
устремлено к одному — к штанге, вся его воля
собрана в один упругий комок.
— Вперёд же, вперёд! — шептал я, хоть этим
пытаясь подбодрить товарища.
Аркадий подошёл к штанге и крепко захватил её
гриф. На мгновение атлет как бы слился со
снарядом в единое целое, словно прирос к полу
вместе с этой огромной тяжестью. А потом
пустил в ход всю свою силу. Штанга оторвалась
от помоста и, убыстряя своё движение, пошла
вверх. Аркадий сделал стремительный подсед — и
штанга опустилась на его широкую грудь.
Оставалось сделать последнее усилие. Последний
порыв, вызывавший к действию все силы, всю волю
штангиста. Огромный вес словно рвался из рук,
пытался увлечь Воробьёва в сторону. Но
несгибаемая воля Аркадия победила — штанга
была покорена.
— Вес взят! — произнёс судья на незнакомом
мне языке.
— Вес взят! — повторил я, и мою грудь наполнила
гордость.
Вскоре настало время выступать штангистам
полутяжёлой категории. То есть на помост пора
было выходить и мне. Я поздравил Аркадия,
поблагодарил его за те приятные переживания,
которые он только что дал мне, команде, своей
родной стране, и, окрылённый, вышел на сцену.
Я не мог выступить плохо после Аркадия. Я
чувствовал, что и меня ждёт успех.
И я не ошибся. Я выжал 125 кг. В рывке же
перешагнул через старый рубеж и поднял 127,5 кг.
А в толчке мне с первого подхода удалось
зафиксировать 157,5 кг. И у меня оставались ещё
две попытки для того, чтобы попробовать
улучшить сумму в троеборье. А сумма эта уже
составляла 410 кг, то есть была
на 7,5 кг больше результата
Станчика, показанного им в Милане.
Я попросил установить на штангу 165,5 кг. Этим
самым я заявил о своём намерении на 500 г побить
всесоюзный рекорд Воробьёва в полутяжёлом весе,
установленный им в Берлине. Прежде чем выйти к
штанге, я отыскал глазами Аркадия. Он сидел в
ложе и улыбался мне, как бы говоря: "Давай,
Тимоша, не робей!"
Но безмолвное напутствие друга не помогло мне.
У меня, увы, не было колоссальной тяги Аркадия
для того, чтобы поднять штангу на грудь. Мне не
удалось собраться. Я сразу почувствовал, что
штанга уходит вперёд, что я не сумел слить
воедино все свои движения, чтобы попасть "в
яблочко".
У меня осталась последняя попытка. Штанга
оторвалась от помоста. Я почувствовал, что всё
идёт хорошо, что сейчас мне удастся её
вытолкнуть, но в то же мгновение я попал
носком ботинка в щель на помосте. Едва
уловимая заминка — и рекордный вес снова
полетел вниз.
Давно я уже не бывал таким огорчённым. Меня не
радовали ни набранные в сумме 410 кг,
ни успех в рывке. Мне казалось, что своей неудачей я
принизил победу Воробьёва, умалил её в глазах
зрителей.
Угнетённый и подавленный ушёл я со сцены. И
вдруг за кулисами попал в чьи-то могучие
объятия. Это Яков Григорьевич Куценко поздравлял
меня с успехом. И когда мне наконец удалось
перевести дыхание, освободиться из железного
кольца его рук, он сказал, улыбаясь:
— Ну, что скажешь, Трофим? Прав я был или нет,
когда говорил тебе: работай над толчком, именно
в толчке твоя победа? — Потом он увидел моё
расстроенное, угрюмое лицо, отстранил меня,
держа за плечи, и спросил: — Ты что невесел?
— Да с чем же меня поздравлять, Яков
Григорьевич? Опозорился я в толчке. И где — в
Вене!
— Ну это ты брось, — нахмурился Куценко. —
Какой же это позор? Да ты же Станчика побил
на семь с половиной килограммов. Ты думаешь,
австрийцы считать не умеют? Ты думаешь, они
не видели, как хорошо ты провёл третью попытку,
и только случайность помешала тебе? Нет, ты
молодец — и не пытайся убеждать себя в обратном.
Тут нас обступили другие товарищи, пошли
рукопожатия, и Воробьёв, пришедший из зала, еле
сумел пробиться ко мне, чтобы, в свою очередь,
поздравить с успехом.
На следующий день мы выехали на Родину.
Слагаемые победы
Закончился 1951 год. На пороге следующего года мне
захотелось подвести итоги, окинуть взглядом
пройденный путь, поставить перед собой новые
задачи.
В 1952 году предстояли крупнейшие международные
встречи, и прежде всего XV Олимпийские игры
в Хельсинки, где мы наконец должны были
встретиться с командой Боба Гофмана не в
зрительном зале, как это было в Австрии, а на
спортивной арене.
На подготовку к Олимпиаде времени у меня
оставалось немного. Успею ли я? Буду ли готов
к встрече со Станчиком?
Но свободное от работы время я посвящал не
только своим тренировкам. Я уже давно мечтал о
том, чтобы передать мой опыт молодёжи. И я
начал заниматься с ребятами одной из московских
спецшкол, с каждым днём всё больше отдаваясь
этому живому и интересному делу. Меня увлекала
работа с подростками, которые мечтали быть
сильными, непобедимыми, вкладывая в эту мечту
всю непосредственность юности.

Однажды, когда я был на занятиях в школе, меня
вызвали к телефону. Звонил Александр Васильевич
Бухаров:
— Ты поедешь в Хельсинки на пятидесятилетие
спортивного общества "Юрю", — сказал Бухаров.
— Приезжай в комитет.
Хельсинки! Побывать в городе, где через полгода
начнутся Олимпийские игры, было очень заманчиво.
В конце января группа советских штангистов, в
которую входила и молодёжь — Иван Любавин,
Алексей Медведев, — и уже проявившие себя
спортсмены — такие, как Владимир Пушкарёв и мой
давний противник Григорий Маликов, во главе
с Александром Васильевичем Бухаровым выехала
в Хельсинки через Ленинград.
Я давно не бывал в городе, который зову
родным и с которым у меня связано столько
радостных воспоминаний. В нашем распоряжении
был целый день. Как и пять лет назад, прямо
с вокзала я поехал в институт физкультуры.
Как меня встретят? Увижу ли старых друзей?
Прямо на пороге института я столкнулся с
Евгением Леонидовичем Барышниковым,
начальником кафедры, который некогда читал
нам историю тяжёлой атлетики.
— А, Трофим Ломакин, почётный гость, — такими
словами встретил меня мой бывший учитель. —
Заходи, рассказывай.
Меня окружили студенты и преподаватели
института. Посыпались вопросы о моих планах,
об успехах товарищей. А через несколько
часов я подходил к дому, где жил Алексей
Михайлович Жижин. Мы обнялись, и Жижин всё
приговаривал: "Ну и здоровый же ты стал,
Трофим, тебя и не обхватишь... А спинища-то
какая!"
Узнав, что мы едем в Хельсинки, Жижин ещё
больше оживился и стал расспрашивать: будем
ли мы участвовать в Олимпийских играх, какое
впечатление произвели на меня американцы,
разговаривал ли я со Станчиком? Я с
удовольствием отвечал на все его вопросы.
На рассвете мы пересекли государственную
границу. Финские пограничники в зелёных
шинелях, вежливо козыряя, внимательно
рассматривали наши въездные документы.
Когда совсем рассвело, я прилип к окну, с
жадностью рассматривая картины незнакомой
мне страны. То там, то здесь снежную целину
пересекали следы лыж, виднелись лыжные
трамплины, по дорогам скользили на финских
санках женщины, мальчики, старики.
Встреченные на вокзале представителями
спортивного общества "Юрю" и местными
тяжелоатлетами, мы отправились в гостиницу
"Карлтон". За окнами лежал тихий сумрачный
город. Как непохож он был на расцвеченный
всеми красками Берлин...
Время, которое оставалось у нас до выступления,
мы посвятили осмотру города. Я жил в одном
номере с Александром Васильевичем Бухаровым и
за время пребывания в Хельсинки подружился с
ним ещё больше.
Александр Васильевич вставал в шесть утра, и,
ещё не проснувшись, я слышал, как он что-то
напевает своим тенорком, а открыв глаза,
видел его шагающим по комнате. Потом Бухаров
делал зарядку, прыгал вприсядку, неутомимый,
жизнерадостный.
Мы бродили с ним по улицам Хельсинки, по его
заснеженным паркам, вспоминая Москву и беседуя
о предстоявшей через несколько месяцев в этом
городе спортивной борьбе.
Как-то вечером, когда мы сидели вдвоём в
комнате, Александр Васильевич стал расспрашивать
меня о моём прошлом, о том, как я стал
заниматься тяжёлой атлетикой. Выслушав мой
рассказ, Бухаров помолчал и заметил:
— А знаешь, у нас ведь много общего в биографии.
— А что же общего, Александр Васильевич? — стал
допытываться я.
Бухаров помолчал, лукаво посмотрел на меня, и
я понял, что сейчас он произнесёт свою обычную
фразу. И в самом деле, Александр Васильевич
тут же сказал:
— Ох, и любопытный же ты, Тимошка! Ну ладно,
делать всё равно нечего, слушай.
И дядя Саша рассказал мне о своей жизни.
Он служил мальчиком в московском магазине чайной
фирмы "В.Перлов и сыновья". В подвале Саша
Бухаров целыми днями возился с гирями,
развешивая чай, кофе и сахар. Иногда это были
маленькие пакетики, иногда большие пудовые
мешки. У подростка к вечеру подгибались ноги
от усталости, но тяжёлый труд закалил его,
сделал сильным и выносливым, так же как и меня
в своё время закалил труд горняка-золотоискателя.
В то время в Москве много народу увлекалось
цирком, борцами и штангистами. Саша Бухаров
тоже мечтал стать непобедимым силачом. Он
сам смастерил штангу и по вечерам, после
работы, упражнялся с ней, мечтая о том дне,
когда сможет сменить подвал магазина на
сверкающую цирковую арену. Но попал он не на
арену цирка, а на арену Сергея Ивановича
Морро-Дмитриева. Это был один из учеников
Владислава Францевича Краевского. Продолжая
дело своего учителя, Дмитриев открыл в Москве
кружок тяжёлой атлетики и назвал его "ареной
физической культуры". Воспитанником Дмитриева
и стал дядя Саша.
— Сергей Иванович услышал о моих способностях,
— продолжил свой рассказ Бухаров, — и ждал
меня. Но когда я пришёл к нему, он был явно
разочарован. "Ростом ты маловат, — сказал он
мне. — А тяжёлая атлетика требует веса. Не
знаю, что из тебя получится..." Но я не смутился
и тут же сумел доказать, что он неправ. Каждый
вечер после работы я стал приходить на
тренировку.
В 1909 году, когда мне было восемнадцать лет,
я впервые выступил на соревнованиях, которые
устроил мой учитель, и занял первое место. С
тех пор никто уже больше не подвергал сомнениям
мои возможности. Через пять лет я стал
чемпионом России. Невозможно вспомнить все
соревнования, в которых приходилось после этого
участвовать. А если сложить все веса, которые я
поднял за свою жизнь, то получится такой тоннаж,
что мне вполне может позавидовать экипаж
современного экскаватора.
Я внимательно слушал рассказ дяди Саши. Он
стал трудиться на нефтеперегонном заводе и
сдружился там с рабочими. Вместе с ними он
встретил Октябрьскую революцию, вместе с ними
начал строить новую жизнь. А в свободные часы
продолжал упражняться с двухпудовыми гирями.
Без физических упражнений Бухаров чувствовал
себя разбитым, вялым. А силы были очень нужны.
Надо было восстанавливать страну, налаживать
хозяйство, бороться со скрытыми и явными
врагами молодой Советской республики.
Тогда многим казалось, что о спорте следует
забыть, что теперь не время заниматься своими
мышцами. Каково же было изумление Александра
Васильевича, когда осенью тревожного 1919 года
ему предложили стать инструктором всевобуча...
В те дни Советская республика на многих
фронтах вела неравную борьбу с вооружёнными
силами контрреволюции. В Москве было
голодно и холодно. Но уже в то время
коммунисты думали о воспитании здоровой
и сильной молодёжи.
Бухаров занимался с молодыми рабочими и
красноармейцами, студентами и школьниками.
Он стал организатором московского
атлетического общества, продолжая дело
своего учителя Морро-Дмитриева. Но времена
стали другими. Вместо талантливых одиночек,
в спортивные залы хлынула волна тянувшейся
к спорту рабочей молодёжи.
От желающих участвовать в физкультурных
праздниках, которые устраивал Бухаров, не
было отбоя. На одном из таких праздников
побывал Феликс Эдмундович Дзержинский. Он
поблагодарил Бухарова и сказал, что пора
создавать пролетарские спортивные общества.
Так зародилось общество "Динамо", одним из
организаторов которого стал Бухаров.
Слушая его рассказ об этом далёком прошлом,
я думал о том, что дядя Саша всю свою жизнь
отдал советскому спорту, советской молодёжи.
Сколько он сделал для развития тяжёлой
атлетики в нашей стране, сколько установил
рекордов, сколько раз защищал честь своей
страны за рубежом... И теперь, на склоне
своих лет, дядя Саша продолжал вести большую
работу во Всесоюзном комитете по делам
физкультуры и спорта. Каждый новый штангист,
появившийся у нас, проходил через его руки,
многому учился у дяди Саши. Он придавал
огромное значение развитию тяжёлой атлетики
в деревнях и на заводах. Он был одним из
инициаторов массовых конкурсов силачей и
сам судил финальные соревнования пятидесяти
пяти лучших гиревиков, приехавших в Москву.
В первые месяцы Великой Отечественной войны
Бухаров вместе со своими учениками ушёл
добровольцем на фронт.
Дядя Саша долго рассказывал мне о своей жизни,
вспоминал своих воспитанников, делился планами.
Никогда ещё я не видел Александра Васильевича
таким оживлённым, таким разговорчивым. И только
потом я понял причину этого: дядя Саша
волновался за нас, молодых спортсменов, которым
предстояло выступать в чужой стране.
С финскими штангистами мы встретились в большом
зале "Мессухали". Зал был полон. Финские зрители
горячими аплодисментами отмечали каждую нашу
победу. А победили мы, как и в Австрии, во всех
семи весовых категориях. Мне удалось
поднять 400 кг. Для меня это было не так уж
много, но финские газеты считали такой результат
очень высоким и печатали мои фотографии.
И вот мы вернулись в Ленинград. На вокзале нашу
команду встречала вся кафедра тяжёлой атлетики
родного института. Пришёл на перроне и Алексей
Михайлович Жижин.
Весь день до отхода московского поезда я провёл
на улицах любимого города, в беседах с друзьями.
Увлёкся так, что чуть не опоздал на вокзал.
Напутствуемый пожеланиями товарищей и последними
советами Жижина, я вскочил в вагон. Хотелось
поскорее добраться до дома, разобраться в
очередной порции впечатлений. Не терпелось
взяться за тренировки. Времени до Олимпиады
было не так уж много.
Видимо, такого же мнения придерживался и
тренерский совет, потому что уже через несколько
дней после приезда начались тренировки.
Занимались мы вместе с Яковом Григорьевичем
Куценко. Особое внимание Яков Григорьевич уделял
толчку. Он учил нас правильно "нависать" над
штангой, так, чтобы мышцы были расслаблены, а
мысль напряжена, готова в нужный момент дать
сигнал к взрыву мышечной энергии. Куценко
показывал, как надо "подрывать" штангу, делать
подсед, выносить вес на грудь и, наконец,
сливая все движения воедино, выталкивать
штангу вверх.
Яков Григорьевич умел удивительно точно
определять количество тренировочной нагрузки
и часто повторял, что самое страшное —
перетренироваться. Помня об этом, я не
увлекался занятиями в тяжелоатлетическом зале.
Много ходил на лыжах. Занимался гимнастикой.
В конце марта в городе Иваново начался розыгрыш
первенства СССР. Когда мы прибыли в Иваново,
Аркадий Воробьёв был уже там. Он рассказал мне,
что успешно сдал экзамены за первый семестр.
— Всё на четыре и на пять. Но и тренировался
хорошо. Знаешь, думаю толкнуть теперь сто
семьдесят килограммов.
Я с нетерпением ждал начала соревнований.
Удастся ли Аркадию установить ещё один
мировой рекорд, побить француза Феррари?
Борьба между нами продолжалась, хотя мы
опять выступали в разных весовых категориях:
Аркадий — в среднем весе, я — в полутяжёлом.
На этот раз успех был на моей стороне.
Аркадию не удалось толкнуть 170 кг. Подвёл
толчок и меня. Но так как в жиме я обогнал
моего друга на целых 7,5 кг, а в рывке мы оба
подняли 130 кг, то сумма трёх движений у меня
оказалась выше: 417,5 кг. Это был мой новый
личный рекорд.
После соревнований мы с Аркадием, обсуждая
наши планы на будущее, выписали на листках
бумаги наши результаты.
Воробьёв Ломакин
Жим — 122,5 кг Жим — 130 кг
Рывок — 130 кг Рывок — 130 кг
Толчок — 162,5 кг Толчок — 157,5 кг
Сумма — 415 кг Сумма — 417,5 кг
Эти цифры свидетельствовали о том, что проблема
у нас обоих одна: толчок. Если Аркадию удалось
бы выполнить задуманное и толкнуть 170 кг,
то он имел бы в сумме трёх движений 422,5 кг.
А я, если толкнул бы, как задумал, 167,5 кг,
то побил бы мировой рекорд в троеборье.
Да, я ещё раз убедился, насколько прав был Яков
Григорьевич Куценко: надо больше работать
над толчком. Иначе нам плохо придётся в
Хельсинки. Таков был наш единодушный вывод.
Сидя над цифрами, мы вспоминали подробности
только что закончившейся борьбы. Следует
заметить, что на соревнованиях в Иваново я
тоже пытался побить мировой рекорд, но не в
толчке, как Аркадий, а в рывке. Сделать это
мне не удалось. И вот сейчас я спросил
Аркадия:
— Как же мне быть с рывком?
Аркадий задумался.
— Трудно сказать. А ты сможешь поработать в
равную силу над двумя движениями?
Теперь задумался я. Сознание подсказывало мне,
что размениваться будет трудно, что для лучшей
суммы надо на время отказаться от подготовки
рекордного рывка. И, словно уловив ход моих
мыслей, Воробьёв сказал:
— Думаю, что сейчас для нас важна прежде всего
сумма. Ведь победителя в Хельсинки будут
определять по сумме...
Вернувшись в Москву, я вместе с Израилем
Бенционовичем Механиком, ставшим моим постоянным
тренером, составил план тренировок на всё
оставшееся до Олимпиады время.
В апреле мы должны были заниматься лёгкой
атлетикой и жимом, работая с малыми весами. В
мае играть в волейбол и полностью переключиться
на толчок. Июнь посвящался доделкам и сборке
всех трёх движений в единое целое — сумму
троеборья.
В план тренировочных занятий я внёс ещё один
раздел: заочное знакомство с моими будущими
противниками, штангистами США и с их боссом
Бобом Гофманом.
Кроме спортивного зала и стадиона, я стал
посещать ещё и библиотеку Научно-исследовательского
института физкультуры. Там имелся комплект
журнала, который издавался хозяином "Йорк
Барбелл компани" Бобом Гофманом.
На яркой обложке журнала стояло название "Сила
и здоровье".
Почти на каждой странице журнала рядом с
широковещательными статьями и сообщавшими о
том, как стать здоровым и сильным, назойливо
резали глаза разнообразные рекламы:
"Если хотите стать сильным, выписывайте йоркские
правила тренировки. Шлите 5 долларов на имя
Боба Гофмана. Штат Пенсильвания, город Йорк."
"Йоркская компания атлетического инвентаря.
Резиновые амортизаторы, гантели, штанги."
"Йоркский курс тренировки мышц живота самого
знаменитого в мире инструктора физкультуры
Боба Гофмана. Пожалуйста, отрежьте этот купон
и приложите к нему 1 доллар."
"Прочтите, что сказал Гофман: при белковой
диете вы должны обязательно применять
минеральные витамины. Не жалейте 10 центов в
день на своё питание. Улучшайте здоровье
за 10 центов в день."
"Гофманский раствор. Удаляет боль и усталость
от перетренировки мускулов, перенапряжения
мышц и связок, боль ног, спины, невралгию,
ревматизм." И рядом с портретом Гофмана —
цена: 1 доллар.
Рекламы, рекламы, рекламы. Белковые пилюли,
станки для укрепления ног, втирания для загара
зимой под ультрафиолетовыми лучами, прибор для
развития силы кисти, прибор для измерения
мышц... Я читал эти строки и всё ясней видел
фигуру этого "мецената от спорта",
"бескорыстного покровителя атлетов", каким
хотел выглядеть Гофман.
Везде, где только можно, он писал о том, что
с 1937 года финансирует команду
штангистов США. Финансирует! Да
он просто держит у себя на жалованье сильнейших
тяжелоатлетов Америки как рекламных агентов
своей фирмы. И деньги, которые он тратит на
содержание спортсменов, возвращаются к нему в
карман в удесятерённом размере.
Спортсмены были для Гофмана всего лишь живой
рекламой: "Станчик глотает минеральные пилюли,
глотайте их и вы, если хотите стать таким же
красивым", "Дэвис пьёт белковый напиток, пейте
его и вы, если хотите стать таким же сильным",
"Шеманский упражняет мышцы своих ног прибором
Боба Гофмана, упражняйте их и вы, если хотите
сделаться мировым рекордсменом".
Всё, что делал Гофман, имело одну цели: продать
как можно больше химических препаратов, штанг,
гантелей, шарлатанских приборов, с помощью
которых можно "накачать" мышцы, сделать
человека внешне красивым, сильным и здоровым.
Именно внешне, потому что почти все красавцы,
все эти "мистеры США", цветные фотографии
которых печатал Гофман в своём журнале, не были
способны толкнуть ядро дальше, чем на пять
метров, или выжать штангу самого малого
веса. 2
Перелистывая журнал, я видел на первой странице
каждого номера написанную Бобом Гофманом
передовую статью и рядом портрет самого
издателя. В каждом номере Боб Гофман делился с
читателями своими мыслями. Иногда это были
рекламные сентенции, иногда философские поучения,
иногда полемика с его противниками.
В одной из таких статей Гофман написал о
разоблачительной газетной кампании,
развернувшейся против босса американских
штангистов в то время, когда он выехал со своей
командой в Милан на первенство мира. Нельзя
было без улыбки читать следующие слова из
защитной статьи Гофмана, лицемерно названной
им "Прощай своих врагов":
"Члены команды читали статьи, направленные
против меня, и кипели от злости. Они не
показывали мне газет, не желая меня огорчать."
Трудно себе представить, что люди, которых
Гофман так беззастенчиво эксплуатирует,
превращая их силу и молодость в доллары,
"кипели от злости", читая статьи,
разоблачающие Гофмана.
В другой статье под интригующим заголовком
"Беспокоит ли вас что-нибудь?" Гофман
уговаривал американцев заниматься спортом,
чтобы не думать о завтрашнем тяжёлом дне,
не думать о своих сыновьях, погибших в
Корее, не огорчаться тяготами жизни.
Вот таков босс штангистов США. Для него победа
его команды над командой СССР —
это не только коммерческая, но и политическая
задача. Так неужели мы, советские спортсмены,
дадим торжествовать этому человеку?
Вот о чём я думал, готовясь к поездке в
Финляндию на Олимпийские игры.
Станчик побеждён
14 июля от перрона Ленинградского вокзала
отошёл поезд. Все пассажиры этого поезда были
спортсменами. В нём были купе легкоатлетов,
гимнастов, пловцов, боксёров, борцов, конников,
стрелков, тяжелоатлетов, футболистов, гребцов.
Поезд шёл в Хельсинки. Волнение охватило всех
нас уже в тот момент, когда прозвучал
прощальный паровозный гудок, скрипнули колёса
и за окнами поплыла назад советская земля.
Мы, штангисты, ехали в нескольких соседних
купе. Иван Удодов, Рафаэл Чимишкян, Евгений
Лопатин, Григорий Новак, Николай Саксонов, я
и Аркадий Воробьёв входили в первый состав
нашей команды.
По правилам соревнования команда состояла
из семи человек, но это не значило, что мы
должны были выставить атлетов во всех весовых
категориях. Распределение сил внутри команды
предоставлялось её руководителям. Мы имели
право не выступать в одном весе и выставить
в другом сразу двух участников.
Было решено отказаться от выступлений в
полусреднем и тяжёлом весах, где мы не имели
достаточно сильных спортсменов. Зато в
полулёгком весе честь Советского Союза должны
были защищать двое — Чимишкян и Саксонов, в
среднем тоже двое — Воробьёв и я.
Ехал с нами в Хельсинки и запасной состав:
Фархутдинов, Мазуренко, Светилко, Осыпа и
Яков Григорьевич Куценко, который числился
в запасе только формально. На самом деле ему
предстояло стать одним из главных
действующих лиц в той борьбе, которая должна
была развернуться со штангистами США, Египта
и других стран. Яков Григорьевич Куценко был
парторгом нашей команды, её душой так же,
как Александр Васильевич Бухаров и наши
тренеры Николай Иванович Шатов, Израиль
Бенционович Механик, Николай Иванович
Лучкин.
Поезд ещё не миновал пригородов Ленинграда, а
я всеми своими мыслями был уже в Хельсинки и
видел Станчика. Я видел Станчика рядом, но
рядом со мной был и Аркадий Воробьёв. Нам
снова предстояло помериться силами в одной
весовой категории, и где — на XV Олимпийских
играх.
Выступая в среднем весе, я и Воробьёв были
соратниками. Ведь наша личная победа
включалась в коллективные усилия всей
команды. Золотые медали выдавались не только
победителям каждой из весовых категорий, но
и одному победителю — команде, набравшей
наибольшее количество очков. 3
Мы с Аркадием обязаны были занять два первых
места, и команде было всё равно, кто из нас
получит золотую медаль. Но это не исключало
нашей борьбы друг с другом. Воробьёв, так же
как и я, конечно, собирался сделать всё
возможное, чтобы стать первым.
Я думал об этом и знал, что об этом же думает
Аркадий, хотя по общему молчаливому соглашению
и я, и Воробьёв делали вид, что перед нами
стоит лишь одна задача — добиться победы над
командой США. А уж кто из нас окажется первым
и кто вторым, не столь важно.
Хельсинки встретил нас пасмурным небом.
Но как преобразился город со времени моего
первого посещения: улицы стали оживлёнными,
всюду слышался громкий говор, красочным потоком
двигалась праздничная толпа, на стенах висели
огромные плакаты, извещавшие о начале Игр, и
всюду — на фасадах домов, на витринах магазинов
— виднелись изображения олимпийской эмблемы:
пяти переплетённых колец, символа единения пяти
континентов.
С первых же шагов мы почувствовали напряжённый
пульс крупнейших международных соревнований.
Повсюду встречались спортсмены самых разных
стран. В городе бурлила огромная масса туристов,
прибывших сюда самыми разными путями —
самолётами, яхтами, поездами. Многие приехали
в Хельсинки на своих машинах.
У вокзального подъезда нас тоже ждали свои
машины. Это были наши, советские автобусы, и,
разместившись в них, мы сразу почувствовали
себя как дома. Но и приехав в приготовленную
для участников соревнований олимпийскую деревню
Отаниеми, мы не почувствовали себя в гостях.
В уютных коттеджах, стоявших в сосновом лесу
на берегу Финского залива, вместе с нами
поселились спортсмены стран народной демократии.
А участники Олимпийских игр из Западной Европы,
Америки и Азии поселились в деревне Кяпюля,
расположенной на другом конце Хельсинки.
На следующий день, узнав, что американские
штангисты уже здесь и тренируются, мы поехали
к ним в гости.
Кяпюля оказался посёлком городского типа,
состоявшим из нескольких многоэтажных зданий.
Один из английских спортсменов взялся проводить
нас и привёл в зал, где тренировались иранцы,
египтяне и американцы. Ещё издали я увидел
Бредфорда, Дэвиса и затем Станчика.
Тренер команды США Терпак подошёл к Шатову,
крепко пожал ему руку и что-то быстро заговорил,
то и дело похлопывая Николая Ивановича по плечу.
Станчик тоже подошёл к нам и полушутя-полусерьёзно
жестом пригласил Воробьёва к штанге. А Терпак,
показывая на Станчика и Воробьёва, сказал на
ломаном русском языке:
— Станчик — Воробьёв? — видимо, желая сказать,
что борьба в среднем весе развернётся между
этими двумя сильнейшими штангистами.
Мы сели в сторонке и стали наблюдать, как
Шеманский толкает 170 кг, как
Станчик тренируется в рывке.
Уезжая домой, мы пригласили американцев к нам в
гости и этим положили начало дружескому общению
между двумя олимпийскими деревнями.
Так с первых же дней стала налаживаться
доброжелательная связь между спортсменами разных
стран. Но кое-кого это не устраивало. Вскоре
после нашего приезда в одной из газет появилось
интервью Боба Гофмана.
"Мы приехали в Хельсинки, — заявил Гофман,
— для того, чтобы снова одержать победу над
советскими чемпионами, чтобы заставить их вкусить
горечь поражения."
Американскому боссу, видимо, очень хотелось разжечь
вражду между нами и американскими спортсменами, а
напоминанием о прежних неудачах вселить в нас
неверие в свои силы. Но всё же вскоре после нашего
посещения олимпийской деревни Кяпюля штангисты США
приехали к нам, и огромный негр Дэвис, сияя
добродушной улыбкой, беседовал с Яковом
Григорьевичем Куценко, а Станчик внимательно
изучал каждое движение Воробьёва.
Мы быстро освоились в Отаниеми. Начались регулярные
тренировки, экскурсии по городу, прогулки по
живописным берегам залива. По вечерам мы часто
сидели у моря вместе с нашими товарищами —
спортсменами Чехословакии, Венгрии, Румынии, Польши,
Болгарии, Албании. Мы исполняли песни и вели
задушевные беседы.
Особенно я подружился с чешским штангистом Пшеничкой,
с которым познакомился ещё на Берлинском фестивале.
Он был там главным противником нашего молодого
товарища — Александра Мозжерина.
Но, несмотря на всю непринуждённость обстановки,
особое волнение — так называемая предстартовая
лихорадка — трепало каждого из нас. Нет-нет,
да и мелькала в голове тревожная мысль: "Скоро выходить
на помост!" В течение дня мы соблюдали жёсткий
режим. Но когда приходил час ложиться спать, тут
уж мы ничего не могли с собою поделать. Сон бежал
от глаз. Мы лежали в темноте на своих постелях и
прислушивались к дыханию друг друга. Потом Иван
Удодов, Евгений Лопатин или я вскакивали и
начинался разговор далеко за полночь, пока наконец
Яков Григорьевич строго не призывал нас к порядку.
С каждым днём в Хельсинки становилось всё
оживлённей. У касс олимпийского стадиона стояли
огромные толпы народа. Через город провозили
гоночные лодки, проводили скакунов. Кафе и
рестораны были заполнены праздничной толпой.
И вот наконец наступило 19 июля, день
открытия XV Олимпийских игр. К часу дня
все 6.000 участников собрались на стадионе.
Как ярок и красочен был этот строй самой
сильной молодёжи мира! Но финский климат не
захотел считаться ни с праздником, ни с
нашими парадными костюмами: начался мелкий
дождь.
Я шёл в одном ряду с борцами Яковом Пункиным и
Александром Сафиным. Впереди колыхалось красное
знамя Страны Советов, поднятое вверх сильными
руками Якова Куценко. Да, знаменосцем колонны
советских спортсменов был парторг команды
штангистов Яков Григорьевич Куценко, и все мы,
тяжелоатлеты, очень гордились этим.
Должно быть, наш строй выглядел очень внушительно
и красиво, потому что когда мы вышли на дорожку,
огромный стадион словно раскололся от
аплодисментов. Раздались крики: "Сталин, комсомол!",
"Сталин, комсомол!"
Ритуал открытия Олимпийских игр был очень
торжественным: нас приветствовал президент
Финляндии, гремел огромный оркестр, в небо
взлетели тысячи голубей.
На гаревой дорожке показался знаменитый финский
бегун Пааво Нурми с факелом в руках. Этот факел
по традиции был зажжён в Греции на горе Олимп 4
и эстафетой пронесён через всю Европу. Нурми
подбежал с факелом к огромной чаше, и там
загорелся олимпийский огонь. Затем бегун
направился к башне, высящейся над стадионом, и
на её вершине тоже вспыхнуло яркое пламя.
А когда закончился торжественный марш спортивных
делегаций и опустело зелёное поле, начались
соревнования. Первыми в них вступили легкоатлеты,
в заливе Мейлахти взяли старт гребцы, начались
схватки борцов.
Эти соревнования полностью захватили меня, и
я на некоторое время забыл о том, что
включиться в них скоро предстоит и мне.
Я видел, как Леонид Щербаков соревновался в
тройном прыжке со знаменитым бразильцем,
рекордсменом мира Феррейро да Сильва и только
он один смог составить бразильцу конкуренцию.
Почти каждый прыжок этих спортсменов был
сенсацией. Феррейро дважды улучшал мировой
рекорд, а Леонид Щербаков стал рекордсменом
Европы, показав второй результат.
Скоро из залива Мейлахти пришло радостное
сообщение: наш молодой гребец Юрий Тюкалов,
студент Ленинградского художественного
училища, побил американца Джона Келли.
Исключительно удачно прошёл первый день
выступлений и у гимнастов.
И в первый же день Олимпиады под звуки
Государственного гимна СССР взвился к небу
флаг нашей Родины, отмечая победу советской
метательницы диска Нины Пономарёвой,
ставшей чемпионкой Олимпийских игр.
В тот вечер в нашей Олимпийской деревне все
горячо обсуждали события спортивного дня.
Мы поздравляли победителей, поднимали в их
честь бокалы... с нарзаном, вручали им
цветы.
Но героев чествовали не только жители
Отаниеми. К нам приезжали многие спортсмены
и из олимпийской деревни Кяпюля. У нас
побывали репортёры различных газет, и на
следующее утро в шведской газете
"Экспрессен" мы прочли, что "советский лагерь
открыт для посетителей другой стороны, а
доброжелательность и откровенность советских
людей поразительны".
Да, разным боссам от спорта не удалось
воздвигнуть железный занавес между двумя
олимпийскими деревнями, и каждый новый день
приносил всё новые знаки сердечной дружбы
между спортсменами разных стран. Мы видели,
как Пётр Денисенко обнимал американского
прыгуна с шестом Ричардса, поздравляя его с
победой, и читали о том, как американец
отнёсся к этому поздравлению. "Честно говоря,
я не могу понять, — заявил Ричардс, — почему
народы мира не могут ладить так, как
спортсмены ладят здесь, на Олимпиаде."
В разных концах Хельсинки — и на земле, и на
воде — происходило столько событий, что
наблюдать сразу за всем было просто невозможно.
Поэтому наши тренеры посоветовали нам следить
за происходящим из Отаниеми.
"Всё равно всего не охватишь, — сказал,
улыбаясь, Николай Иванович Шатов, — а со
стороны, как говорят, виднее."
Конечно, это было сказано в шутку. Просто перед
предстоявшей борьбой следовало беречь каждую
каплю нервной энергии.
Утром наши товарищи — легкоатлеты, гребцы,
стрелки, борцы собирали своё снаряжение и,
напутствуемые тысячами добрых пожеланий,
отправлялись на стадион, в залив, на стрельбище.
А мы, штангисты, оставшись в опустевшем городке,
с нетерпением дожидались новостей.
Все газеты в те дни были полны восторженных
сообщений о победе советских гимнастов, об успехах
гребцов, о замечательном даровании молодого
стрелка Анатолия Богданова. На нашу долю
оставалось одно — готовить букеты и поздравления.
Цветами встречали мы у въезда в деревню
замечательного чешского бегуна Эмиля Затопека
и его жену Дану Затопкову. Супруги привезли со
стадиона сразу две золотые медали: Эмиль за
победу в беге на 5 тысяч метров, а
Дана за самый дальний бросок копья.
А как радовались мы успеху молодого венгерского
метателя молота Иосифа Чермака, завоевавшего
первое место... Как горячо жали руку его учителю
Имре Немету... Немет получил бронзовую медаль,
но разве частица золотой не принадлежала также и
ему?
Каждый вечер мы подсчитывали количество золотых
и серебряных медалей, полученных советскими
спортсменами. И когда после четвёртого дня стало
известно, что уже 29 золотых
и 29 серебряных медалей находятся
в городке Отаниеми, мы устроили маленький
пир всё с тем же нарзаном.
24 июля в зале "Мессухали-2" закончились
состязания гимнастов. Как известно, эти
соревнования стали триумфом советских
спортсменов. На следующий день освободившееся
место заняли штангисты.
Всей командой мы провожали Ивана Удодова, Рафаэла
Чимишкяна и Николая Саксонова — атлетов
легчайшего и полулёгкого весов. Как мне хотелось
отправиться вместе с ними, чтобы видеть ход
борьбы... Насколько легче быть свидетелями
разворачивающихся событий, вместо того чтобы
ждать результатов в опостылевшем городке...
Как тигры, метались мы с Аркадием по пустым
коридорам, не находя себе места. Что
происходило там, на олимпийском помосте?
Удодову предстояла встреча с рекордсменом
мира египтянином Махгубом и
победителем XIV Олимпийских игр иранцем Намдью.
Наконец я не выдержал и тайком поехал в город.
Крадучись, чтобы не встретить кого-нибудь из
тренеров, я пробрался к входу в
зал "Мессухали-2"... и ничего не
узнал. А когда вернулся, Аркадий встретил меня
радостным сообщением:
— Ваня в рывке поднял 97,5 кг. А его главный
противник сейчас — иранец Мирзаи.
Стало немного легче, и мы даже нашли в себе
силы приветливо встретить гребцов американской
восьмёрки, приехавших в гости к нашим гребцам.
Гости немного развлекли нас, а вскоре по
телефону пришло сообщение, что Иван Удодов не
только олимпийский чемпион, но и олимпийский
рекордсмен: в сумме трёх движений он
поднял 315 кг.
— Ну, Аркаша, начало положено, — сказал я
Воробьёву, обнимая его с таким восторгом,
словно это он только что установил новый
олимпийский рекорд. Но Воробьёв ответил:
— Подожди радоваться, что ещё Чимишкян и
Саксонов покажут...
В самом деле, в своём порыве радости я и забыл
о том, что сейчас на смену Удодову уже вышли
на помост два наших атлета полулёгкой категории.
Вскоре мы вручили традиционный букет Ване
Удодову и стали ждать новых известий с ним
вместе. Мы не отходили от телефона, но
сообщений из зала всё не было.
Наконец из зала соревнований приехал борец Гиви
Картозия.
— Ребята, пока дела обстоят неважно, — сказал
Картозия. — Чимишкян выжал 97,5 кг, Саксонов
— 95 кг, а тринидадец Уилкас
— 100 кг. Видели бы вы, как
этому обрадовался Гофман: бросился тринидадцу руку
пожимать...
Воробьёв в сердцах плюнул и выскочил из комнаты,
но у меня не хватило сил отойти от телефона.
Я мрачно сидел перед аппаратом и ждал звонка,
и добряку Картозия, видимо, стало жаль меня.
— Ничего, Трофим, — сказал он, присаживаясь
рядом, — Механик говорил, что наши всё
наверстают.
В этот момент резко, словно хлыстом ударив по
нервам, зазвонил телефон. Я сорвал телефонную
трубку. Говорил Механик:
— Трофим, успокойся. Чимишкян и Саксонов
вырвали по сто пять килограммов. Уилкас
только сто. Ложитесь спать. Не ждите, вернёмся
поздно... Ты слышишь? Обязательно ложитесь
спать.
Пришлось подчиниться приказанию. Конечно, я не
имел права так волноваться. Хорошо я выглядел
бы послезавтра в зале "Мессухали-2",
если не смог бы взять себя в руки!
Видимо, волнение этого напряжённого дня так
измотало меня, что я впервые за последнее время
крепко заснул. Проснувшись рано утром, я сразу
же вскочил и бросился разыскивать Чимишкяна.
Я нашёл его в вестибюле. Взбудораженный,
счастливый, он, оказывается, не спал всю ночь.
— Ну, рассказывай, как было дело? — накинулся я
на него.
— Да ничего особенно, — ответил Чимишкян, —
набрал 337,5 кг. Саксонов на втором месте.
— Да это же новый мировой рекорд! — закричал я
во весь голос и стал поздравлять Рафаэла с
золотой медалью.
Однако с победой Удодова и Чимишкяна моё волнение
не только не прошло, но, напротив, усилилось. В
тот день предстояло выступить Жене Лопатину,
моему другу и соседу по комнате. Главным его
противником оказался американец Томми Коно, очень
сильный штангист. Евгений Лопатин должен был
обязательно завоевать второе место. Дело было не
столько в серебряной медали, сколько в количестве
очков, которые получала советская команда.
Ещё задолго до начала борьбы наш тренерский совет
составил график движения к победе. В этом графике
учитывались не только наши силы, но и силы наших
главных противников — американцев. Конечной целью
этого графика была командная победа, самая
почётная и важная.
Итак, по предварительным намёткам, Евгению
Лопатину требовалось занять второе место,
мне и Воробьёву — первое и хотя бы третье, а
Новаку — первое или второе. Если это было
бы выполнено, то Боб Гофман оказался бы битым.
Снова потянулся томительный день у телефона.
Пришло первое сообщение: в жиме Лопатин
поднял 100 кг и оказался на шестом месте.
После долгого ожидания пришло новое сообщение:
в рывке Женя поднял 107,5 кг и перешёл на
четвёртое место.
Не было больше сил ждать этих скупых сведений,
и мы пересели к радио. На наше счастье, как раз
шла передача из зала "Мессухали-2".
— На штанге сто сорок два килограмма, —
услышали мы голос диктора. — Последняя попытка
в толчке Евгения Лопатина.
Мы затаили дыхание: если попытка не удастся,
то будет слышен грохот упавшей на помост
штанги. Но из микрофона доносилось только
далёкое дыхание зрительного зала.
— Взял на грудь, — сказал Воробьёв.
Прошло ещё несколько секунд ожидания. И грохот
аплодисментов, донёсшийся до нас, оказался
красноречивее всех слов.
— Толкнул! — сказали мы в один голос.
С таким результатом Лопатин не мог не выполнить
своей задачи. И когда мы наконец дождались его
у подъезда, он ещё из окна автобуса крикнул нам:
— Второе место!
Казалось бы, теперь появилась возможность и
отдохнуть. Но разве нам было до отдыха в тот
вечер? Завтра с утра предстояло выходить на
помост.
Завтра! Сколько ещё часов надо прожить, прежде
чем оно настанет: назавтра в Сталинграде должно
было состояться торжественное открытие
Волго-Донского канала. Об этом мы тоже узнали
из сообщений радио. Большой праздник всего
советского народа совпал с днём нашей встречи
со Станчиком. Как же можно было проиграть эту
встречу? В разных городах Советской страны
тысячи советских людей следили за нашими
успехами, ждали наших побед.
В те дни буржуазная печать всячески превозносила
Станчика. Газеты цитировали слова Гофмана о нём:
"Такие люди рождаются раз в столетие", описывали
блестящий путь воспитанника Гофмана —
"знаменитого американского менеджера, издателя
известного атлетического журнала". Вспоминались
успехи Станчика в полулёгком, лёгком, среднем и
полутяжёлом весах.
Но, читая и слушая все эти сообщения, я
вспоминал другое — печальную судьбу многих
прежних любимцев Боба Гофмана. Где они оказались
теперь? Гофман никогда долго не держал своих
парней. Он превозносил их лишь до тех пор, пока
они побеждали. Я вспомнил рассказ Куценко о его
беседе со Станчиком на банкете после окончания
первенства мира в Париже. Станчик с горечью
сказал Куценко о том, что сейчас живёт хорошо,
но не знает, что будет с ним завтра.
— Годы летят быстро, — говорил Станчик, — а с
годами улетучивается сила, мой единственный
капитал...
Но пока "капитал" Станчика был ещё при нём,
и данные, которыми мы располагали,
свидетельствовали о том, что американский
штангист был хорошо подготовлен к борьбе с
нами во всех трёх движениях.
Окончился долгий и томительный день, ещё более
тревожный, чем два предыдущих. И когда пришло
время ложиться спать, Куценко, увидев меня и
Аркадия рядышком на скамейке у дома, подошёл,
сел между нами и, обняв нас обоих за плечи,
сказал:
— В первый раз вижу, чтобы так дружили атлеты
одной весовой категории. Какие вы неразлучные!
— Помолчал и добавил: — В эту ночь грешно вас
разлучать. Будете отдыхать вместе в одной
комнате.
Яков Григорьевич словно чувствовал, что между
мною и Аркадием не всё договорено, что нам
многое надо сказать друг другу. Когда мы
улеглись в постелях и потушили свет, Аркадий
спросил:
— Не спишь, Трофим?
— Не сплю, — ответил я.
— Хочешь выиграть?
— Конечно.
— Хорошее дело... С каких весов думаешь
начинать?
— Жим со ста двадцати пяти килограммов, рывок
со ста двадцати семи с половиной, толчок со
ста шестидесяти... А ты?
— Я начну жать со ста двадцати, рывок такой же,
как у тебя, а толчок по ходу событий — или со
ста шестидесяти или со ста шестидесяти двух.
Там видно будет.
Мы замолчали, потом Воробьёв снова спросил:
— А на какую сумму надеешься?
— Могу сказать тебе, Аркадий. Надеюсь выжать
сто тридцать, вырвать сто тридцать два с
половиной, а толкнуть не меньше ста шестидесяти
семи с половиной.
Воробьёв помолчал минуту — видимо, складывая
в уме все эти цифры, и весело сказал:
— Выходит, мировой рекорд: четыреста тридцать
килограммов.
— А ты на что рассчитываешь?
— Да знаешь ли, на столько же. Разница в
небольшом: выжать я думаю меньше на пять
килограммов, зато вырвать на два с половиной
килограмма больше и толкнуть сто семьдесят
килограммов.
— Думаешь здесь, в Хельсинки, побить рекорд
Феррари?
— Надеюсь.
Расчёт Воробьёва был правилен и целиком совпадал
с моим расчётом. Обдумывая ещё в Москве
предстоявшую борьбу с американцем, я и мой
тренер Механик пришли к выводу, что мне надо
оторваться от Станчика в жиме, не отстать в
рывке и толчком закрепить победу.
— Ну что же, Аркадий, — оказал я. — Будем вместе
воевать за первое место. Может быть, разделим
его пополам. Вес у нас равный.
— Равный-то равный, — сказал со вздохом Аркадий,
— да уж больно я мастер по своим граммам
проигрывать. А хочется побить этого Станчика.
Причём не столько Станчика, сколько его босса.
Америку в лице Гофмана хочется побить.
— А завтра в Сталинграде праздник, — сказал я.
И мы стали вспоминать города, где нам приходилось
встречаться: Воронеж, Тбилиси, Ленинград, Баку...
— В Сталинград поедем зимой, — сказал Аркадий,
— там первенство страны по штанге, знаешь? Как же
мы там покажемся, если не побьём Станчика?
— Не можем не побить, — сказал я убеждённо.
— Или ты, или я, но побьём, слышишь, Аркадий?
Воробьёв не ответил — то ли думал о своём, то
ли уже уснул. Вскоре уснул и я.
В восемь часов утра нас разбудил Механик:
— Ребята, пора вставать. Взвешивание в десять
часов.
— Как в десять? — вскочил с постели Аркадий.
— Ведь назначено было на час.
— Изменили. Придётся и нам менять своё расписание.
Неожиданное сообщение очень взволновало нас.
Вся предварительная тренировка в Хельсинки
строилась так, чтобы наши организмы привыкли
к дневной нагрузке. А тут приходилось начинать
разминку с раннего утра. Но делать было
нечего. Мы провели обычную прогулку,
гимнастику, позавтракали и вчетвером — я с
Воробьёвым и два наши тренера, Механик и
Лучкин, — поехали на взвешивание.
Сколько раз мне приходилось бывать в зале
"Мессухали-2"! Но теперь я увидел его не со
стороны зрительного зала, как обычно, а со
стороны кулис. Нас проводили за сцену, и мы
спустились по лестнице в нижнее помещение,
где находились раздевалки, душевые и коридор
для разминки. В коридор, как в гостинице,
выходил ряд дверей. Каждая комната была
предназначена для одного из участников. Наши
с Воробьёвым комнаты оказались рядом.
"Сколько трудных минут предстоит провести
мне здесь?" — подумал я, окидывая взглядом
маленькую светлую комнатку, в которой
единственной мебелью служил небольшой
диванчик и пара стульев.
Едва мы с тренером успели расположиться,
как из-за перегородки донёсся голос Воробьёва:
— Тимоша, пойдём на взвешивание.
Быстро раздевшись и накинув халат, я вышел
в коридор. Аркадий уже дожидался меня.
В сопровождении тренеров мы прошли в комнату,
где происходил торжественный предстартовый
ритуал. Вокруг весов собралась вся судейская
коллегия. Когда мы подошли к этой оживлённой
группе, с весов торжественно, словно с
постамента почёта, сходил Станчик —
великолепно сложённый, с рельефной и мощной
спиной, с гармонически развитыми мышцами.
Увидев нас, американец заулыбался,
приветственно помахал рукой и вернулся к
весам. Его явно интересовали результаты нашего
взвешивания. Первым на весы поднялся я.
— Восемьдесят один килограмм восемьсот
граммов, — объявил судья.
Вслед за мной на весы встал Воробьёв.
— Восемьдесят один килограмм восемьсот
граммов, — снова объявил судья.
Станчик подошёл к Воробьёву.
— Вы легче, — произнёс он на ломаном русском
языке и показал на пальцах, на сколько легче.
— Это те самые шестьсот граммов, — сказал ему
Воробьёв, — которые дали вам победу в Париже.
— О да, да, — закивал головою Станчик. — Те
самые шестьсот граммов.
Тогда Станчик был легче Воробьёва. Теперь же
Аркадий оказался легче своего противника. Что
же, это было немалым преимуществом перед
началом борьбы.
Мы втроём направились к выходу и прошли в
свои комнаты. Комната Станчика помещалась как
раз напротив наших. Следом за мной в комнату
вошёл Израиль Бенционович.
— Ну, Трофим Фёдорович, собирайся на парад, —
сказал он серьёзно.
Как стремительно разворачивались события!
Взвешивание осталось позади и 26 сильнейших
средневесов мира в разноцветных костюмах —
брюнеты и блондины, чернокожие и белотелые —
встали в один ряд. Далеко перед нами гудел
переполненный зал. Справа от нас на сцене
находились места для журналистов и
радиокомментаторов, позади — стол, за которым
восседало пять человек жюри, а прямо перед
нашими ногами лежала штанга.
Станчик стоял первым с правого фланга, я —
предпоследним. Когда я окинул взглядом могучий
ряд атлетов, то в голове мелькнула тревожная
мысль: "Один другого шире..." Но я тут же
успокоил себя: "Ничего, соревнования покажут,
кто сильнее".
Торжественная часть закончилась. Началось
первое движение — жим. На щите вспыхнуло
число — 90 кг.
Пока нам на сцене делать было нечего. В
сопровождении Механика и Фархутдинова я ушёл
в свою комнату и лёг на диван. За стеной так
же молча лежал Аркадий. А что сейчас делал
Станчик?
— Трофим, пойдём на разминку, — услышал я
голос Воробьёва.
— Подожди, Аркадий, ещё есть время, — крикнул я
ему в ответ.
Снова наступило молчание. Хорошо так лежать,
расслабив мышцы, не думая ни о чём — но вскоре
и в самом деле настала пора разминаться.
Я вышел в коридор и увидел Станчика,
подпрыгивавшего со штангой. Мы начали выполнять
разминочные упражнения. Во всех концах коридора
были видны сгибавшиеся и разгибавшиеся фигуры
штангистов, готовившихся к выходу на помост.
— Ну, Трофим, иду жать, — сказал мне Аркадий.
Он начинал с меньшего веса, чем я. Прошло
несколько минут, и я услышал аплодисменты. "Это,
наверное, Воробьёву", — подумал я.
Вскоре к лестнице направился и Станчик.
— Идём, — сказал мне Механик.
В сопровождении тренера я пошёл по коридору
навстречу своей судьбе... Судьбе? Нет, я шёл
на сцену, зная, что меня там ждёт, готовый к
трудной схватке с сильнейшими штангистами
мира. Заранее была продумана вся тактика
борьбы. Я знал, как надо использовать с
максимальной выгодой каждый подход к штанге.
Когда мы появились на сцене, судейская коллегия,
собравшись около стола жюри, о чём-то
оживлённо спорила. Судьи, оказывается, обсуждали
следующий вопрос: считать или не считать попытку
Клайду Эмричу, второму средневесу из США,
только что не совсем чисто выжавшему 120 кг?
Об этом мне сказал Аркадий, который, успешно закончив
первый подход — он поднял 120 кг,
— остался на сцене, чтобы видеть дальнейший
ход борьбы.
Проходили долгие минуты, остывало тело,
разогретое разминкой, а судьи всё спорили и
спорили. Наконец вынесли решение — попытку
Эмричу засчитать. И вот на помост вышел Станчик.
Он начал жим со 122,5 кг.
Станчик наклонился над штангой. Я увидел
невозмутимое лицо Гофмана, не спускавшего глаз
со своего атлета. Рядом с Гофманом стоял
Терпак. Штанга взлетела к груди Станчика, и
по хлопку судьи он начал жим. Жал он нечисто,
но три белые судейские лампочки вспыхнули на
щите (у нас красные лампочки — это знак победы,
здесь же — знак поражения). Вес был засчитан.
На штангу добавили 2,5 кг. Получилось 125 кг
— вес, с которого я решил начать борьбу.
Непривычно прозвучал вызов: "Трофим Ломакин".
Механик ободряюще хлопнул меня по спине. Я
вышел на помост и остановился перед штангой.
Прикосновение стального, согретого чужими
руками грифа на мгновение обожгло, словно
металл был раскалён. Я замер над штангой,
прислушиваясь к самому себе, готовясь к тем
усилиям, которые должны были последовать.
Пора! Мёртвый вес, лежавший у моих ног, ожил
и, покорно следуя моим усилиям, оторвался от
пола. Ещё одно напряжение мышц — и я
зафиксировал штангу на груди. Ну, теперь
второй старт. И силой одних только рук я выжал
штангу. Вес был наверху, но я ждал судейской
отмашки и только по сигналу судьи осторожно
опустил штангу обратно на помост.
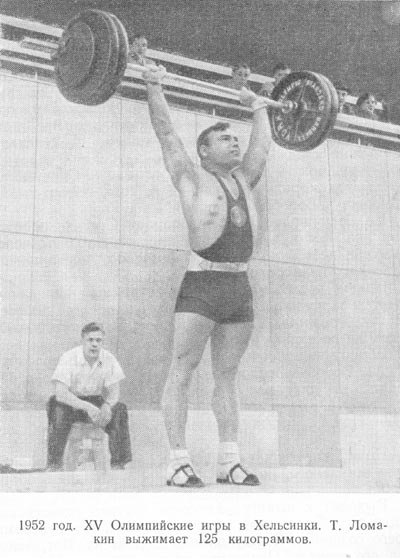
Теперь нужно было идти отдыхать. Следующий
мой выход ожидался нескоро — но как уйдёшь,
если за мной должны были выступать Станчик
и Воробьёв?
Но Станчик не вышел на помост. Станчик
пропустил вес. Вот, оказывается, в чём
заключалась тактика американца: в первом
подходе он обеспечил себе минимальный
результат и теперь мог попытаться обогнать
нас.
Аркадия вызвали на вторую попытку. С огромным
волнением я следил за всеми его движениями.
Конечно, он должен был выжать 125 кг.
Я нисколько не сомневался в этом и всё
же почему-то волновался.
Штанга взлетела на грудь Воробьёва. Напрягая
все мышцы своих рук, Аркадий стал выжимать
штангу, но она давила на него, не давая ему
распрямить локтей. И Аркадий ушёл с помоста
огорчённый и подавленный.
— Пошли, Трофим, — подтолкнул меня
тренер. — Надо отдохнуть.
Но я не мог уйти со сцены, не мог оставить
Аркадия одного, не мог не увидеть его третьей
попытки.
К штанге выходили какие-то другие участники,
зал гудел, но всё это находилось где-то в
стороне, за пределами моего сознания. Я ждал
выхода Воробьёва. И вот наконец настала его
очередь. Последняя, третья попытка. Неужели
Аркадию не удастся собраться, неужели он не
сможет взять вес, который обычно так легко
поднимал на тренировках?
Штанга снова оказалась на груди у Аркадия, и
он снова начал её выжимать. Я увидел, что
Воробьёв изнемогает от предельных усилий, я
увидел, как он борется с огромным весом —
отважно, самозабвенно. Мне показалось, что ему
вот-вот удастся заключительное
усилие — и в этот момент штанга с грохотом
полетела на помост.
Всё, Аркадий поднял в жиме только 120 кг.
А у Станчика оставались в запасе ещё две
попытки.
Теперь мы остались на сцене вдвоём: я и
американец. Очередь была за Станчиком, и он
попросил добавить на штангу два с половиной
килограмма.
— Что мне делать дальше? — спросил я Механика.
— Идти на этот же вес?
127,5 кг планировались и у меня на вторую
попытку.
— Подождём — увидим, — сказал мне Механик.
Крепко сжав челюсти и прищурившись, он следил
за всеми движениями Станчика: возьмёт тот вес
или не возьмёт?
Куда только подевались лёгкость и
непринуждённость движений американца — он с
трудом оторвал штангу от помоста, весь
напрягшись, еле дотянул её до груди, но,
выжимая вес, потерял над ним контроль.
Штанга потянула атлета за собой, и Станчик
непроизвольно попытался помочь себе ногами
и туловищем.
— Не взял... — сказал Механик, облегчённо
переводя дыхание.
— Да, не взял, — согласился я.
Но что это? На щите зажглись две белые лампочки
и только одна красная. Судьи засчитали попытку.
Надо было немедленно протестовать. Наши
представители тут же пошли к столу жюри.
Одновременно с ними к столу жюри медленно, не
торопясь, направился Боб Гофман.
— Ну, это надолго, — сказал Механик. — Пойдём,
Трофим.
Мы ушли со сцены. И только через сорок минут
стало известно, что попытку Станчику не
засчитали.
Поднявшись в зал, я ещё издали увидел Стенли
Станчика, лихорадочно шагавшего вокруг помоста.
Сзади ходил Терпак и что-то ему втолковывал.
Гофман стоял рядом с судьями. Зал сдержанно
гудел, дожидаясь того момента, когда
американский атлет снова подойдёт к штанге.
Мы остановились в стороне, ожидая развязки.
Терпак прямо на сцене торопливо массировал
мышцы рук Станчика, а тот, полный нетерпения,
рвался от него к штанге. Вот он вышел на помост
— напряжённый, очень взволнованный. Нет, в
таком состоянии веса Станчик вес не возьмёт —
я это чувствовал. Воробьёв, оказавшись рядом,
сказал мне:
— Вон как волнуется. Ещё бы, последняя попытка.
Он понимает, что если в жиме не оторвётся от
тебя, то плохи его дела.
Мы стояли и смотрели, как Станчик яростно
захватывает гриф, как, ослеплённый своим
волнением, тянет штангу, как он шатается под
тяжестью веса. И повторилась та же картина —
штанга потащила американца за собой, почти
сбила с ног. Нечеловеческим усилием воли,
за которым, наверное, скрывалась боязнь за
свою судьбу, за своё благополучие, Станчик
постарался остановиться, и на какое-то
мгновение это ему удалось. Но стоял он меньше
двух секунд, явно меньше. Почему же судья дал
отмашку, почему зажглись две белые лампочки?
До чего же цинична была эта обстановка
нечестных махинаций, как не походила она
на международные соревнования, в которых мне
приходилось участвовать! Я привык к тому,
что победа достаётся в честной борьбе, а
здесь она определялась в спорах у судейского
стола.
Станчик снова не взял вес. Его третья попытка
оказалась ещё хуже второй. Наши представители
снова направились к столу жюри, и снова рядом
с ними выросла фигура невозмутимого Гофмана.
— Пошли, — сказал мне Механик, — опять будет
перерыв на полчаса.
Тянулись томительные минуты ожидания. Но вот
открылась дверь и в комнату молча вошёл Бакир
Фархутдинов. Всё стало ясно без слов: на этот
раз попытку Станчику засчитали. Мне пора было
выходить на помост.
Когда я заявил 130 кг, по рядам зрителей пробежал
взволнованный гул. Станчик, бледный, вспотевший,
услышав об этом по дороге к выходу, растерянно
пожал плечами. Гофман заходил по сцене. А в это
время ассистенты навесили на штангу ещё 2,5 кг.
Теперь и Воробьёв, и Станчик были только
зрителями. Последнее слово оставалось за мной.
У меня были две попытки, два шанса обойти
Станчика. Я стоял в стороне и наблюдал суету
на репортёрских скамьях, слышал выкрики
радиокомментаторов, жестикулировавших у своих
микрофонов. Сейчас, в эти минуты, моё имя
летело по волнам эфира. Его слышали в Москве,
на Алтае и на Сахалине — везде, где слушали
передачу из зала "Мессухали-2".
Я начал поднимать вес, стараясь не напрягаться,
и штанга покорно, слишком покорно подчинилась
моим усилиям. Вот она уже легла на грудь.
Судья хлопнул в ладоши, давая мне знак, что я
могу продолжать движение. Я начал выжимать
штангу, но с каждым сантиметром огромный груз
всё с большей силой сопротивлялся мне. Вот
гриф поднялся на уровень рта, вот он достиг
уровня носа, глаз. Но я изнемог, мне не хватало
дыхания, всё больше слабели руки. Нет,
приказывал я себе, нельзя покоряться. Последним
порывом воли я поднял штангу до уровня лба.
Дальше она, увы, не пошла. Я почувствовал, как
напряглись жилы на моей шее. Пот заливал глаза.
Нет, поднять невозможно! И я опустил штангу на
помост.
Сходя с помоста, я увидел торжествующую улыбку
Гофмана, лицо Механика, замкнутое и суровое,
сумрачный взгляд Воробьёва.
— Ничего, Трофим, сейчас возьмёшь, — сказал
Механик, вытирая мне лицо. — Сейчас возьмёшь.
Ты только успокойся, приди в себя. У нас ещё
целых две минуты.
Я знал, как волновался в эти минуты мой
тренер, знал, каких усилий ему стоило
скрывать свои чувства от меня, и это
возвратило мне спокойствие.
Пора! Надо было снова выходить. И я шепнул
Механику на ухо:
— Сейчас выжму.
И я снова взял штангу на грудь. Снова сантиметр
за сантиметром стал жать её вверх, но тут же
почувствовал, что она уходит вперёд, увлекая
меня за собой, что я не могу удержать её...
Печальным было наше возвращение вниз. Мы шли по
душному коридору, в котором непривычно пахло
какими-то втираниями. Бодро и как будто весело,
словно радуясь нашей неудаче, прыгали американцы,
готовясь к рывку.
Итак, можно было подвести первые итоги: Станчик
поднял 127,5 кг, я — 125 кг,
Воробьёв — 120 кг. Американец
оказался впереди. У меня ещё были шансы догнать
его, но Воробьёв отстал на 7,5 кг.
— Не падай духом. У нас ещё всё впереди, —
успокаивал меня Механик. — В рывке мы можем и
не догнать его. Но толчок будет наш, я это
точно знаю.
И пока там, наверху, шла борьба на малых весах,
я старался вернуть себе то спокойствие и ту
сосредоточенную уверенность, без которых штангисту
нечего делать на помосте.
Распахнулась дверь и вошёл Яков Григорьевич Куценко.
— Ну как, Трофим, — теперь видишь, что такое
соревнования с американцами? Помнишь, что я тебе
в Киеве рассказывал?
А я лежал на диване и думал о том, что не могу
не выполнить здесь, в Хельсинки, обещания,
данного нашим старшиной Куценко в Кремле, в
Георгиевском зале. Я просто не имел права не
выполнить это обещание.
Яков Григорьевич заботливо пригладил мои волосы,
наклонился и шепнул:
— Крепись, Тимоша...
И тут же из-за стены раздался голос Аркадия:
— Тимофей 5,
пошли разминаться.
Эти спокойные слова товарищей как-то сразу
вернули мне силы. Я вышел в коридор, чувствуя
привычную уверенность. Но как тяжёл, как
приторен был здесь воздух...
— Это что — гофмановская смесь так пахнет? —
спросил я Механика.
Тренер молча показал мне на пустые бутылочки,
валявшиеся на полу у стены. Я нагнулся и
увидел на одной из них знакомую мне по
журналу Гофмана этикетку "эмбрикейшн". Ну да,
конечно, это знаменитый гофманский раствор,
а вот и портрет самого фабриканта. Боб
Гофман смотрел на меня с рекламной этикетки,
скрестив руки на своей ещё сильной и
мускулистой груди. И тут же я увидел, как
американский массажист щедро лил на ладонь
эту пахнувшую скипидаром жидкость и втирал
её в кожу Стенли Станчика.
"Удаляет боль и усталость, предохраняет от
перенапряжения мускулов и связок,
производство "Йорк Барбелл компани"", —
вспомнил я рекламный текст, напечатанный на
этикетках гофмановского снадобья. Пнув одну
из пустых бутылок, подвернувшихся мне под
ноги, я начал разминку, с наслаждением
чувствуя, что мышцы мои свежи, а сердце
спокойно.
Станчик направился на сцену в тот момент,
когда на штангу поставили 122,5 кг. По
планам для меня и для Воробьёва, мы должны
были начинать со 127,5 кг. Но так как
разминка была закончена, мы тоже пошли
наверх посмотреть на американца.
Вес он поднял легко и чисто. Недаром Станчик
славился своим рывком. На штангу
поставили 125 кг. Мы отказались от выхода,
Станчик тоже.
На штангу надели ещё 2,5 кг. Первым к этому
весу подошёл Аркадий. Штангу он зафиксировал
легко и точно. Затем настала очередь Станчика.
Он почти уже вырвал снаряд, но зафиксировать
его не сумел. Уронив штангу на помост, Стенли
укоризненно посмотрел на неё, махнул рукой и
пошёл со сцены. Теперь наступила моя очередь.
И так же легко и спокойно, как Аркадий, я
выполнил своё движение.
Итак, мы только начали борьбу, а у американца
оставалась всего одна попытка.
Мы видели, как Станчик ходил по сцене, натирая
руки магнезией, как около него хлопотал Терпак,
как массажист, опустив с плеч американского
атлета кремовое трико, растирал ему мышцы. Стенли
сделал третий подход, и зал аплодисментами
встретил его успех. Станчик догнал нас. Теперь
в активе у него тоже были 127,5 кг.
Но на штангу по нашему заказу прибавили пять
килограммов. У меня и у Аркадия оставалось
ещё по две попытки. У Станчика — ни одной.
Это была реальная возможность не только
наверстать потерянное в жиме, но и обойти
американца в его коронном движении — рывке.
Первым попытался сделать это Аркадий. Ему сие
должно было удаться — ведь сколько раз Воробьёв
поднимал ещё больший вес, сколько раз
добивался рекордных результатов! Но теперь
Аркадий вёл борьбу не только со штангой, теперь
на него давила сила того ажиотажа, который
создали на сцене Гофман и некоторые судьи,
смотревшие боссу американцев в рот внимательнее,
чем на помост. И, видимо, этот груз оказался для
Воробьёва слишком велик. Штанга весом 132,5 кг
с грохотом упала на помост. Свой подход к этому
же весу сделал я... и получил тот же результат.
К штанге снова вышел Аркадий. Я не смотрел на
него, слишком напряжены были мои нервы.
Отвернувшись, я ждал — что последует сейчас:
гром аплодисментов или грохот упавшей штанги?
Я услышал грохот штанги. Воробьёв завершил
свои попытки. Теперь только я мог обогнать
Станчика.
"Я должен, — твердил я себе. — Должен, должен".
Но штанга, уже поднятая в воздух и стремительно
взлетавшая вверх, ушла вперёд и вырывалась из
моих рук.
Какая неудача, какая грозная неудача! Две
попытки не привели ни к чему. Станчик удерживал
своё преимущество уже после двух движений.
По-прежнему 2,5 кг
отделяли его от меня и 7,5 кг
— от Аркадия.
Я опять лёг в своей комнате. Воробьёв был за
стеной. Около меня опять сели Механик и добряк
Фархутдинов, осунувшийся за эти четыре часа и
не находивший себе места. Иногда дверь
приоткрывалась, и я видел лица товарищей. Они
не заходили ко мне, не хотели тревожить, но я
знал, что в эти решающие минуты все они с
нами — и Александр Васильевич Бухаров, и Яков
Григорьевич Куценко, и Николай Иванович Шатов,
и Рафаэл Чимишкян, и Ваня Удодов.
— Руки слабеют, — пожаловался я Механику, и он
тут же позвал массажиста.
Умелые пальцы массажиста приятно скользили по
мышцам, словно выдавливая из них усталость. Я
чувствовал, что мне захотелось спать, — и это
обрадовало меня, ибо является верным признаком
того, что через несколько минут я снова буду
готов к борьбе.
— Всё решится в толчке, — говорил Механик. —
Будь спокоен, Трофим. Я знаю, что в этом
движении ты всё отыграешь.
"Всё нужно решать в толчке. Здесь тебя ждёт
главный успех", — вспомнились мне слова
Куценко.
"Да, я хочу толкнуть 170 кг", — словно услышал
я голос Аркадия. Моему другу никак не удавалось
претворить в жизнь своё заветное желание. Может
быть, здесь, в Хельсинки, ему это наконец
удастся сделать?
— С какого веса будешь начинать? — спросил
меня тренер. — Может быть, со ста шестидесяти
двух с половиной?
Я отрицательно помотал головой.
— Нет. Будем придерживаться графика. Я и
Аркадию сказал, что начну со ста шестидесяти.
— Ну что же, может быть, ты и прав, — согласился
Израиль Бенционович. Вдруг распахнулась дверь
и в комнату ворвался запыхавшийся Фархутдинов.
— Что там случилось? — спросил его Механик. —
Может быть, Станчику его рывок не засчитали?
— Нет. Станчик уже на сцене. Он начинает со ста
пятидесяти пяти, — проговорил Фархутдинов, не
поняв впопыхах шутки тренера.
Это была и в самом деле интересная новость.
Станчик начинал с небольшого веса. В кого же он
не верил — в себя или в нас? Наверное, он хотел
закрепить свою победу, действуя наверняка. Ну
что же, тем лучше.
Когда мы пришли наверх, Станчик, уже выполнил
подъём и, довольный, улыбающийся, о чём-то
беседовал с Гофманом. Судья назвал мою фамилию.
— Пропускаю, — сказал я.
— К штанге вызывается Аркадий Воробьёв, — объявил
судья.
— Пропускаю, — повторил за мной Аркадий.
— Русские пропускают, — разнеслось по залу.
— Русские пропускают, — на разных языках
проговорили радиокомментаторы в свои микрофоны.
— Русские пропускают, — принялись выстукивать
на своих телетайпах репортёры.
Станчик перестал улыбаться. Гофман, только что
добродушно беседовавший с ним, нахмурился и
подошёл поближе к помосту. Я увидел его совсем
рядом, когда вышел к штанге, на которой было
установлено 160 кг.
Гофман неотступно следил за мной. Как непохож
был этот высокий рыхлый человек на молодого
атлета, чей портрет был наклеен на бутылочки с
"эмбрикейшн"... Как не похож он был на того
преуспевающего дельца, чей портрет изображался
на первых страницах журнала "Сила и здоровье"...
В Гофмане не чувствовалось ни силы, ни здоровья
— одутловатое лицо, раскисший рот, глаза
навыкате. Что нужно было ему у штанги? Почему
он вёл себя так развязно, словно был здесь
единственным судьёй и полновластным хозяином?
Эти мысли возбуждали во мне такое возмущение,
что я поднял штангу, не чувствуя её тяжести.
"Есть!" — просигналило мне сознание. "Есть!"
— аплодисментами оповестил о моём успехе
зрительный зал. На щите разом вспыхнули три
белые лампочки.
С сожалением выпустив гриф из рук, я отошёл в
сторону, уступая место Воробьёву. И Аркадий
поднял вес столь же точно и чисто.
Ему на смену вышел Станчик, и, наблюдая за ним,
я почувствовал: это последний вес, который может
поднять американец. Его движения выглядели
скованными и напряжёнными. Станчик был на пределе.
— Есть ли желающие поднять сто шестьдесят два с
половиной килограмма? — спросил судья.
— Нет, желающих нет.
На штангу установили 165 кг. У меня и Воробьёва
впереди снова были две попытки, а у Станчика
только одна.
— Если ты возьмёшь этот вес, то можешь считать
себя олимпийским чемпионом, — сказал Механик и
ободряюще хлопнул меня по спине. — Пора, Трофим.
Мгновение я стоял не двигаясь. Механик с
тревогой посмотрел на меня.
— Иди же, Трофим, — потребовал он.
И я пошёл на помост, чувствуя на себе сотни глаз,
устремлённых на меня из зала. Я увидел Гофмана.
Обычно невозмутимый, он теперь не мог скрыть
своё волнение. Американский босс явно хотел,
чтобы я провалился, чтобы обе попытки в толчке
не удались мне так же, как они не удались мне в
рывке...
Штанга лежала передо мной, словно упираясь своими
круглыми боками в пол, готовая к сопротивлению, к
борьбе.
"Смелее же, Трофим", — убеждал я самого себя.
Я захватил гриф, напрягся — и штанга оказалась у
меня на груди. Ну, ещё одно усилие! Я попытался
поднять снаряд от груди и почувствовал, что не
могу. Нет, не могу!
Я вернулся к Механику. У меня осталась всего одна
попытка. Я подумал, что сейчас на помост выйдет
Станчик, и если он возьмёт этот вес, то тогда всё
будет кончено, что тогда мне уже не догнать его...
Станчик вышел под ободряющие возгласы своих
товарищей и своих соотечественников, сидевших в
зале. Время, кажется, остановилось. Как медленно
двигался Станчик, как долго он примеривался...
"Ну же, скорей", — мысленно торопил я его. И в
следующую минуту всё решилось: Станчик не смог
поднять штанги даже на грудь, она сразу же упала
обратно на пол.
А как там Воробьёв? Будет ли он брать этот вес
или решится на то, о чём говорил со мной ночью?
— Пропускаю, — спокойно сказал Аркадий. Зал
встретил это короткое слово единым вздохом
удивления. "Пропускаю" означало, что Аркадий
пойдёт на мировой рекорд. "Пропускаю" означало,
что Воробьёв попытается совершить невозможное,
попытается догнать двоих, ушедших далеко вперёд.
"Молодец, Аркадий, — подумал я. — Какое мужество
надо иметь, чтобы в этой обстановке наивысшего
напряжения после всего пережитого бросить в зал
простое слово "пропускаю"?"
Я отыскал взглядом Станчика. Побледневший,
осунувшийся, он стоял в стороне один и ждал,
что будет дальше. Теперь ему оставалось только
надеяться на свою удачу, которая всегда ему
сопутствовала. Эта безмолвная сцена так
захватила меня, что я потерял ощущение времени.
Как, неужели снова мой выход? Так быстро?
Я посмотрел на Механика.
— Может быть, мне тоже пропустить? — спросил
я, но Израиль Бенционович отрицательно помотал
головой.
— Не забывай, что ты работаешь не на себя, а на
команду, — проговорил он. — Нужна прежде всего
победа нашей команды. Победа над Станчиком. А
время рекорда придёт. Сто шестьдесят пять
килограммов дают нам эту победу, подними же их.
— Сейчас подниму, — сказал я уверенно.
Механик торопливо вытащил из кармана пузырёк с
нашатырным спиртом и сунул его мне под нос. Я
глубоко вдохнул, на глаза навернулись слёзы, но
голова прояснилась до звона, и с мыслью: "Что
же ты за сибиряк, если не толкнёшь?" я
направился к штанге.
"Любыми путями, только бы толкнуть эту железяку",
— говорил я себе. Выдох, вдох, и штанга тут же
оказалась висящей в воздухе в моих ровно
выпрямленных руках. Я стоял, не веря сам себе,
ошеломлённый случившимся, оглушённый грохотом
аплодисментов, который всё нарастал и нарастал. Я
забыл о том, что штангу уже можно опустить, что
вес взят, что я победил Станчика. Я стоял и
держал над головой 165 полновесных, покорённых
мной килограммов. Судья махал рукой, но я говорил
себе: "Надо ещё подержать для верности". А зал
всё бушевал, и Гофман с поникшей головой, с
растерянной улыбкой стоял в стороне и тоже
аплодировал мне.
Не знаю, сколько я так простоял, — десять
секунд или пятнадцать; мне казалось, что целую
вечность. Потом я положил штангу на помост так,
словно она ничего не весила, и только тогда
почувствовал настолько предельную, настолько
оглушительную усталость, что едва удержался от
того, чтобы лечь на пол. Но ко мне тут же
подбежал Механик, и его объятие вернуло мне
силы, а вместе с ними пришло ликующее ощущение
большой, долгожданной победы.
"Я победил, я победил, — хотелось мне крикнуть
во весь голос. — Американцы биты, теперь им нас
не догнать."
И тут же рядом я увидел Станчика.
— Стар, стар, — произнёс он и печально, жалко
улыбнулся. А в следующее мгновение что-то
большое, чёрное, жаркое надвинулось на меня, и
совсем рядом со своим лицом я увидел сверкающие
зубы Дэвиса. Негр крепко обнял меня и от души
хлопнул по спине. А зал неистовствовал, бушевал,
восхищённый этим объятием русского и негра. 6
— Пойдём, отдохнёшь немного, — сказал
Механик и, взяв меня под руку, попытался увести со
сцены. Но я не двинулся с места. Я не мог не быть
сейчас рядом с Аркадием, не мог не увидеть его попытки
поднять сто семьдесят килограммов и догнать меня.
Если Воробьёв поднял бы этот вес, то у нас
получились бы одинаковые суммы — по 417,5 кг.
Тогда свершилось бы то, о чём я говорил Аркадию в
ночь перед началом борьбы.
А на штангу уже надевали добавочные пять
килограммов.
— Желаю тебе удачи, Аркадий, — сказал я Воробьёву,
когда он стремительно бросился к штанге.
Но что это? Воробьёв, ещё не дотянув штанги до
колен, опустил её на помост.
Я переглянулся с Механиком. Заметил взволнованное
лицо Николая Ивановича Лучкина, тренера Воробьёва.
Увидел, как торжествующий Гофман бежит куда-то
со сцены, как радиокомментаторы, вразнобой
размахивая руками, кричат в микрофоны, передавая
на весь мир сообщение о неудаче советского
штангиста.
— Не сосредоточился, — хриплым шёпотом
сообщил мне Воробьёв.
Его грудь тяжело вздымалась, волосы прилипли к
высокому лбу, а руки были сжаты в кулаки так,
словно ещё держали гриф штанги.
— Ничего, Аркадий, — сказал я ему в ответ, — ты
ведь не использовал эту попытку: штанга была
ниже колен. Главное, поднять вес, а с какой
попытки ты это сделаешь, неважно.
Я сжал плечо товарища, словно передавая ему
остававшиеся у меня силы. Рядом хлопотал Лучкин.
Тем временем Воробьёва снова вызвали на помост,
и мы, затаив дыхание, стали следить за тем, как
Аркадий идёт к штанге, как наклоняется к ней,
как легко отрывает от пола. Вот штанга легла
на грудь Воробьёва, вот она уже оказалась на его
выпрямленных руках... Но почему же судья не даёт
отмашки? Неужели не прошло двух секунд? "Подожди
ещё немного", — шептал я. Но Воробьёв не мог
больше ждать и опустил вес.
А когда Аркадий снова направился к штанге для
третьей попытки, Гофман замахав руками, что-то
закричал, и судьи остановили Воробьёва.
— Попытка уже использована, — передал решение
судей переводчик.
Гофман, совершенно утратив свою сдержанность,
бушевал у стола жюри.
— Что он говорит? Против чего он протестует?
— спрашивали мы нашего переводчика.
— Гофман утверждает, что советский спортсмен,
подняв штангу с помоста во второй попытке,
уже использовал её, — объяснил нам переводчик.
— Но это же жульничество, это же неприкрытое
жульничество! — волновался Воробьёв. — Я ведь
не дотянул штангу до колен.
Вот когда мне стало понятно, почему многие
спортивные представители отказались судить нас,
средневесов. С трудом удалось уговорить только
англичанина, иранца и египтянина — они
знали, какая острая борьба ожидается в среднем
весе, они понимали, что исход этой борьбы
определит команду-победительницу,
и не хотели связываться с Гофманом.
— Пойдёмте вниз, — сказал Яков Григорьевич
Куценко. — Этот спор надолго. И Аркадию надо
отдохнуть.
Мы спустились по лестнице, прошли по коридору,
вдоль стен которого строем стояли участники
соревнования, штангисты разных стран,
приветствуя меня и выражая своё сочувствие
Аркадию.
Воробьёв, замкнутый, суровый, прошёл в свою
комнату, а я, открыв дверь в свою, увидел, что
она заполнена народом. Ко мне бросились
товарищи, поздравляя с победой, но я остановил
их:
— Подождите, у Аркадия осталась третья попытка.
И снова потянулись минуты ожидания. Борьба
снова шла не на спортивном помосте, а у
судейского стола, борьба ожесточённая, трудная.
И я знал, что каждая минута промедления
оставляет всё меньше шансов на удачный толчок
Воробьёва.
В этой борьбе победили представители советской
команды — жюри наконец признало, что Воробьёв
имеет право на третью попытку.
Мы снова вышли на сцену, я снова стал следить за
усилиями товарища, он снова смело и решительно
оторвал штангу от пола, поднял её на грудь и
снова не смог толкнуть.
— Перегорел, — сказал мне Механик. — Ещё бы,
сорок минут ждать и волноваться — кому такое по
силам?
Аркадий вернулся к нам огорчённый и усталый. Он
подошёл и поздравил меня с победой. А я
поздравил его: ведь мы выиграли у американцев.
Через десять минут мы стояли на пьедестале почёта.
Я в центре, справа от меня Станчик, занявший
второе место, слева — Воробьёв. Девушка в финском
национальном костюме поднесла нам на подушечке
медали. И громко, торжественно зазвучал в зале
Государственный гимн СССР, наш гимн.
На следующее утро все газеты были полны описаний
борьбы штангистов среднего веса. На одной из
страниц я увидел снимок и узнал на нём себя. Под
снимком было написано: "Ломакин поднял сто
шестьдесят пять килограммов. Этим толчком решился
исход борьбы средневесов". Тут же были напечатаны
итоги борьбы: советская команда набрала 40 очков,
команда США — 38 очков.
В течение целого дня в Отаниеми приезжали
спортсмены разных стран, чтобы поздравить нас
с успехом. Вместе с нами радовались наши друзья
из стран народной демократии, а мой приятель,
чешский штангист Пшеничка, улыбаясь, показал мне
финскую газету, вышедшую перед началом
соревнований штангистов. Заголовок одной из
статей гласил: "Станчик не отдаст золотой медали".
— Отдал, — оказал Пшеничка, —
пришлось отдать. — И вручил мне на память
газету с её неудачным пророчеством.
Но самую большую радость доставили мне слова
Гофмана, которые он произнёс, встретившись с
Механиком.
— Вам легче подбирать людей, чем мне в Америке,
— оказал Гофман. — У вас больше народу.
Босс американских штангистов признал своё
поражение...
Быстро промелькнули последние дни Олимпийских игр.
Теперь мы не пропускали ни одного соревнования.
Мы посмотрели водное поло, плавание и решающие
баскетбольные встречи. Сколько пришлось оставить
автографов, сколько советов дать штангистам разных
стран!
Но вот наступил заключительный день Олимпиады.
Мы снова вышли на стадион, до отказа заполненный
зрителями. Теперь красное знамя, которое в день
открытия Олимпийских игр нёс Яков Куценко, было
в моих руках. Высоко к небу поднимал я
государственный флаг СССР.

Борьба продолжается
Как встречала нас Москва! Никогда не забуду
переполненного перрона Ленинградского вокзала.
Прожекторы освещали огромные букеты и сотни
радостных лиц. Едва остановился поезд, едва мы
успели шагнуть из вагона, как оказались
подхваченными ликующими друзьями. Нас оглушили
приветствия, расспросы, восклицания, музыка и
объятья.
Оставив свои вещи в вагоне, мы вышли на площадь,
где под знамёнами своих обществ стояли,
приветствуя нас, своих посланцев, физкультурники
московских предприятий, вузов и школ.
Ещё несколько дней после приезда я жил в
атмосфере этой радостной встречи. Все поздравляли
меня с победой, с почётным званием заслуженного
мастера спорта, присвоенным также и Аркадию
Воробьёву.
Но вот я снова сложил в чемоданчик свои вещи и
поехал на вокзал: мне дали отпуск на службе, и
по путёвке Комитета по делам физкультуры и
спорта РСФСР я уезжал на Алтай. Там мне
предстояло выступить с несколькими докладами
в спортивных коллективах, а также провести
показательные выступления. Кроме того, перед
началом новой борьбы я хотел отдохнуть у себя
на родине.
Всю дорогу я радовался, как мальчишка, успешно
сдавший трудные экзамены. Так, должно быть,
чувствует себя юноша, окончивший школу с
золотой медалью. Ну что же, я действительно
окончил спортивную школу, и золотая медаль
была при мне.
В Бийске на вокзале меня встречали
физкультурники всего города. Я никак не
ожидал этого и совершенно растерялся. А
потом пошли выступления на заводах и в
колхозах. Сколько способной молодёжи прошло
передо мной! Как богата силачами наша земля!
Быстро промелькнули дни моих "каникул",
беспечная жизнь в материнском доме, и вот
я снова оказался в Москве, снова наступили
спортивные будни.
Однажды вечером все мы, члены команды,
участвовавшей в Олимпийских играх, собрались
за круглым столом. На нём лежали наши медали,
завоёванные в борьбе с сильнейшими
штангистами мира — и тут мне вспомнился
другой стол, простой щербатый стол в нашей
избе, а на нём пакетики с золотым песком,
добытым тяжким трудом из недр алтайской
земли. Сейчас золото снова лежало передо мной,
и добыто оно было трудом не менее тяжёлым,
чем труд старателей — но во много раз более
радостным. Осуществилась наша заветная мечта,
о которой я так много говорил с дядей Сашей
Бухаровым, с Яковом Григорьевичем Куценко, с
Алексеем Михайловичем Жижиным, с Аркадием
Воробьёвым, со всеми моими товарищами:
американцы были побиты.
Но в спорте, как и в жизни, борьба никогда
не кончается. И вот однажды Александр
Васильевич Бухаров вызвал меня к телефону и
предложил срочно приехать в комитет. Он
встретил меня озабоченный:
— Ну что же, Тимошка, собирайся в дорогу,
хватит праздновать лентяя.
— А куда нужно ехать, дядя Саша? — спросил я.
— Олимпийским чемпионом стал, — ехидно
ответил Бухаров, — Стенли Станчика побил. А
остался всё таким же любопытным мальчишкой.
Сказано тебе — собирайся. Поедешь в
Чехословакию на месячник дружбы. А
тренироваться к поездке будешь с Алексеем
Михайловичем Жижиным, он на днях приедет
из Ленинграда.
И я снова стал тренироваться с моим давним
учителем. После нескольких тренировок Алексей
Михайлович сказал мне:
— Похоже, Трофим Фёдорович, тебе удалось
собрать в целое все три движения. Это большой
сдвиг. А какую задачу мы перед тобой поставим
сейчас?
Когда он задал этот хорошо знакомый вопрос,
мне сразу вспомнилась моя студенческая пора,
зал тяжёлой атлетики в институте физического
воспитания, наши первые поиски, удачи и
огорчения.
— Решайте сами, Алексей Михайлович, —
сказал я. — Вам со стороны виднее.
— Ну что же, раз ты оставляешь за мной
последнее слово, то вот оно, — решительно
заявил Жижин. — Мы будем бить всесоюзный
рекорд в троеборье.
— В среднем весе? — удивлённо спросил я.
Всесоюзный рекорд в среднем весе, установленный
ещё в 1946 году, был равен 432,5 кг.
— Нет, — ответил Жижин. — Сперва попробуем
побить рекорд в полутяжёлом. Тогда тебе
хватит и четырёхсот двадцати семи с половиной
килограммов.
Действительно, с меня хватило бы и этого. Ведь
это означало, что я должен был в жиме и в
рывке поднять по 130 кг, а в
толчке 167,5 кг.
Задача была трудной, но я чувствовал, что
готов к её выполнению.
И вот закончились тренировки, и мы снова
оказались в поезде. В команду входили
Фархутдинов и Чимишкян, молодой легковес
Иванов, молодой полусредневес Степанов, я,
Холин и Медведев. Мы снова пересекли
государственную границу СССР.
Ночью 24 ноября мы прибыли в Прагу. Утром,
увидев этот красавец-город, я никак не мог
налюбоваться его улицами, парками, соборами,
дворцами. Всё свободное от тренировок время
мы бродили под предводительством Пшенички,
окружённые дружелюбным вниманием многих
тысяч людей. Нам пожимали руки, желали новых
успехов, приглашали в гости и всё время
спрашивали, нравится ли нам Злата Прага.

Как легко, как радостно дышалось нам в этом
городе!

27 ноября мы соревновались с чехами во Дворце
спорта. Я как капитан команды вручил чешскому
капитану наш вымпел и крепко пожал ему руку.
Выступая в среднем весе, я поднял в жиме 127,5 кг,
в рывке 130 кг и в толчке 165 кг.
Сумма троеборья оказалась внушительной
— 422,5 кг. На пять
килограммов больше, чем я показал в Хельсинки.
Мне ещё ни разу не удавалось добиться такого
успеха, и Жижин после соревнований сказал:
— Ну что же, Трофим Фёдорович, на вторых
соревнованиях побьём рекорд.
Я находился в хорошей форме, был бодр и
надеялся, что предсказание моего тренера
сбудется.
В предвкушении этого я поехал в Остраву 7,
чешский Донбасс, где нам предстояли пройти
вторые соревнования, на которых я собирался
выступить в полутяжёлом весе. Мои 83 кг 400 г
давали мне на это право.
За все годы выступлений я ещё никогда не
чувствовал такой большой силы, такой лёгкой
уверенности, такого подъёма, пьянящего
ощущения отсутствия всяких преград. И каждая
новая попытка приносила мне новый успех.
Жим я для разминки начал со 110 кг. Потом легко
поднял 120 кг, а затем и 130 кг.
Рывок начал со 120 кг, затем, не
чувствуя веса, поднял 130 кг и
попросил прибавить ещё 5 кг.
135 кг — это был новый всесоюзный рекорд, на
целый килограмм превышавший результат Воробьёва,
показанный им весной того года в Свердловске.
Впервые я пытался побить рекорд в рывке, и в
эти минуты мне казалось, что Аркадий снова со
мной, хотя его и не было в Чехословакии.
Чехи любят и понимают тяжёлую атлетику. Людям,
сидевшим в зале, не надо было объяснять, что
такое 135 кг для спортсмена, который собирается
поднять их в самом точном и стремительном
движении — рывке. Здесь, в Остраве, каждый
зритель желал мне успеха. Здесь не было врагов,
как в зале "Мессухали-2" в Хельсинки. И я смело,
уверенно вышел к штанге и поднял её так же
легко, как и во второй попытке. Рекорд Воробьёва
был побит.
Толчок я начал со 150 кг, затем поднял сразу
на 12,5 кг больше. После этого в сумме трёх
движений я уже выполнил свою задачу, то есть
побил всесоюзный рекорд. Но силы ещё не были
истрачены до конца, у меня имелась ещё одна
попытка, и я попросил прибавить 5 кг.
Теперь передо мной снова был рекордный вес,
на 500 граммов превышавший результат Аркадия.
И снова спокойно и уверенно я поднял штангу.
Так на одном соревновании я внёс сразу три
поправки в таблицу всесоюзных рекордов. С того
дня рекорд страны в полутяжёлом весе в сумме
трёх движений стал равен 432,5 кг.
Как восторженно встречали зрители, заполнившие
остравский цирк, мой успех, как сердечно
поздравляли они меня, сколько теплоты было в
рукопожатиях чешских штангистов!
Да, я неплохо заканчивал 1952 год. Золотая
олимпийская медаль и лучшая сумма трёх движений
— таков был итог.
Я подводил итоги года в Чехословакии, но знал,
что зимой мне предстоит ещё одно соревнование.
В декабре в Сталинграде должны были встретиться
сильнейшие штангисты страны для борьбы за
командное первенство Союза.
Я впервые ехал в этот легендарный город, о
котором столько читал, о котором так часто
вспоминал в дни Олимпийских игр в Хельсинки.
И вот он раскинулся передо мной — со своими
новыми домами и ещё не стёршимися следами
исторической битвы. Огромный, присыпанный
снежком, вытянулся он по берегу Волги на
многие-многие километры.
Здесь я снова встретился с Аркадием
Воробьёвым. Он поздравил меня с рекордом и
сказал, что тоже готов к рывку 135 кг.
Яков Григорьевич Куценко, увидев меня, крепко
пожал мне руку.
— Ты молодец, Трофим, — похвалил он меня.
В итоге соревнований мой результат
составил 415 кг, результат Аркадия оказался
таким же. Но, проиграв мне в жиме 5 кг,
Воробьёв осуществил своё давнее намерение
в рывке — он поднял 135 кг.
Для среднего веса это был новый мировой рекорд.
Но чемпионское звание было присуждено всё же
мне, поскольку я весил на 400 граммов меньше
Аркадия.
Всё свободное время мы с Аркадием, как всегда,
проводили вместе и в основном делились планами
на следующий год.
— Я, Трофим, хочу толкнуть 170 кг,
— говорил Аркадий. — Неужели не удастся?
— Уверен, что удастся, — убеждал я друга.
— И в Хельсинки удалось бы, не сорви фактически
Гофман твоей третьей попытки.
— Вот будет хорошо, — улыбался Аркадий.
— Тогда, понимаешь, сразу столько сил во мне
прибавится!
Он рассказал мне о своей учёбе в институте, о
маленькой дочке, которая у него недавно
родилась.
Когда мы однажды гуляли с Аркадием по берегу
Волги, нас кто-то окликнул:
— Эй, орлы, вы о чём секретничаете? — и между нами
очутился Александр Васильевич Бухаров. — Дайте-ка
старику покрасоваться... — произнёс он своим
тенорком. — Это ведь как-никак
почётно — пройтись с двумя сильнейшими
средневесами мира... Нравится мне, ребята, что
так дружно живёте, что правильно понимаете
спортивную борьбу. В наше время такого не было.
Он шутил и смеялся, — оживлённый, подвижный,
полный радужных планов. Кто мог знать, что через
несколько дней его уже не будет с нами!
В поезде Александр Васильевич, как всегда, был
душой общества. Он торопился домой, волновался,
говорил, что его ждут неотложные дела, думал о
новых соревнованиях...
Бухаров скоропостижно скончался в первый же день
после возвращения в Москву.
Как он был близок нам, молодым спортсменам, как
много он нам дал! Он всегда жил нашими проблемами,
радовался нашим успехам, огорчался нашими
неудачами.
Гроб с телом Александра Васильевича Бухарова был
установлен во Дворце спорта, в центральном зале,
где он столько раз судил нашу борьбу... Бухарова
провожали все его ученики, и самые сильные люди
страны несли его тело к траурной машине. А вечером
после похорон мы все собрались и помянули добрым
словом этого человека большой и светлой души...
Всю зиму 1953 года я много работал. Время было
точно распланировано. Дневные часы уходили на
службу в воинской части и на занятия с моими
молодыми учениками в школе. Вечером же я
встречался с Механиком во Дворце спорта у
штанги.
Работа и будничные тренировки успокаивали меня
после последних бурных месяцев. Я ощущал, как
в меня вливаются новые силы.
Так же, как и Воробьёв, я готовился к тому,
чтобы толкнуть 170 кг, и Аркадий знал об
этом. Отделённые друг от друга многими
сотнями километров, мы вместе шли к одной
цели.
И почти в один и тот же день, в конце февраля,
мы попытались осуществить свои намерения —
Аркадий в Свердловске, а я в Москве на
спортивных соревнованиях Московского военного
округа.
Моя попытка оказалась неудачной, а через три
дня я прочёл в газетах, что Аркадий Воробьёв
установил мировой рекорд для атлетов среднего
веса, толкнув 170 кг. В этом был весь Воробьёв
— упорный, целеустремлённый. Он снова шёл
первым и звал меня за собой.
Да, правильно предсказывал мне Яков Григорьевич
Куценко, что именно в толчке у нас с Аркадием
развернётся самая острая борьба. Но почему же
я так часто срывался? Надо было наконец
докопаться до истины.
И однажды причина этого раскрылась. Оказалось,
что, толкая штангу, я поднимался на носки и
потому терял равновесие. А толчок надо начинать
на полной ступне и переходить на носки только в
самом конце движения.
Теперь надо было проверить правильность моей
догадки. На это ушёл почти весь март. И когда
мне удалось изменить работу ног, я сразу же
почувствовал себя совершенно уверенно.
С каждым днём толчок получался у меня всё
лучше и лучше. Но 170 кг были уже пройденным
этапом. Для того чтобы установить мировой
рекорд в толчке, надо было поднять хотя бы на
полкилограмма больше.
500 граммов — какой это, кажется, ничтожный
вес... Полкило хлеба, полкило масла — их легко
унесёт в руках даже семилетний ребёнок. Но
полкилограмма, прибавленные к 170 кг,
— это очень много.
Часто на тренировках я брал в руки небольшой
стальной кружочек, всего 500 граммов. Как
невесомо лежал он у меня на ладони... Но я
знал, что этот безобидный кружочек может
оказаться той каплей, которая переборет мою
силу.
Наконец подготовка закончилась. Для
установления рекорда мы выбрали соревнования
на первенство Москвы. Они проходили во
Дворце спорта, где я недавно прощался с
дядей Сашей Бухаровым. Теперь там находился
ярко освещённый огнями тяжелоатлетический
помост. Все зрительские места были заняты.
Сделав энергичную разминку в тренировочном
зале, я выполнил жим и рывок, а затем с первой
же попытки толкнул 160 кг. Настал долгожданный
момент к которому я так долго, так тщательно
готовился,
— На штанге сто семьдесят килограммов пятьсот
граммов, — объявил судья. — Заслуженный мастер
спорта Трофим Ломакин идёт на побитие рекорда
Аркадия Воробьёва.
Я подошёл к штанге и остановился перед ней.
Как хотелось мне именно здесь, именно в этом
зале поднять рекордный вес! Всем своим
существом я чувствовал, что готов к этому. Но
когда штанга оторвалась от пола, я сразу
понял, какую огромную тяжесть хочу перебороть.
Она пригибала меня к полу, словно гигантский
магнит. Связывала, будто чугунными цепями.
Ценой предельных усилий я старался разорвать
эти цепи и поднял штангу на грудь, но как
только я попытался её толкнуть, она тут же
вырвалась из рук и грохнулась на пол,
прогибая доски.
При полном молчании всего зала я ушёл обратно
в тренировочный зал. Там было тихо, спокойно,
в зеркалах отражались шведская стенка и диски
для штанги.
Вслед за мной в зал вошёл Механик.
— Трофим, сейчас ты её толкнёшь, — сказал он. —
Поверь моему опыту. Подъём у тебя шёл нормально,
но ты немного опоздал с подседом. Отдохни,
сосредоточься. Помассировать тебя?
— Нет, спасибо, Израиль Бенционович, — отказался
я и сел на стул, вытягивая ноги и весь отдаваясь
отдыху.
Механик сел рядом, и мы промолчали всё время,
остававшееся до третьей попытки. Потом тренер
сказал:
— Пора, Трофим. — И, так же как в Хельсинки,
легонько подтолкнул меня к двери.
Я снова вышел в зрительный зал, где меня ждали
сотни людей, надеявшихся стать свидетелями
установления мирового рекорда.
На помосте меня ждали всё те же 170,5 кг
— вес, который не удавалось поднять ещё ни одному
средневесу во всём мире. Подходя к штанге, я
опять подумал, что эти 500 граммов, прибавленные
к рекорду Воробьёва, делают мою задачу почти
невыполнимой. Будто 170 кг было бы поднять
совсем просто.
"Да неужели я не подниму какие-то пятьсот
граммов?" — спросил я самого себя.
И поднял штангу вверх так чётко и просто, словно
она и в самом деле весила всего лишь 500 граммов.
Но когда рекордный вес закачался в моих руках,
мне стоило огромных усилий удержать его. Как
всегда в такой момент, простая мысль: "вес взят",
пришла не сразу. Казалось, пролетело очень много
времени между тем моментом, когда штанга
поднялась над моей головой, и тем моментом, когда
я услышал гром аплодисментов.
— Вес взят! — донёсся до меня откуда-то
издалека голос судьи, и тогда я осторожно опустил штангу.
Зал взволнованно гудел, ожидая результатов
взвешивания. И, окружённый толпой участников
соревнований, через которую никак не мог
пробиться Механик, я встал на площадку весов,
чтобы судьи могли удостовериться в том, что мой
собственный вес не превышает установленной
нормы. Потом весы поставили на высокий стол и в
присутствии всех зрителей проверили вес штанги.
Мировой рекорд Воробьёва был побит, моя мечта
осуществилась, но борьба и на этот раз
продолжилась. Из Свердловска приходили вести о
том, что Воробьёв, узнав о моём успехе,
деятельно начал готовиться к нашей новой
встрече — на этот раз в Риге на розыгрыше
первенства Вооружённых Сил.
На этом соревновании мы с Аркадием снова
выступили в разных весовых категориях: я — в
среднем весе, Аркадий — в полутяжёлом. Но, как
всегда, несмотря на это, состязание между нами
продолжалось и закончилось тем, что Воробьёв
побил все мои рекорды в полутяжёлом весе. Он
поднял в рывке 137,5 кг, в
толчке 170 кг, а в сумме трёх
движений 435 кг.
Как стремительно росли результаты советских
штангистов! Казалось, не было пределов, которые
мы не могли бы преодолеть. Почти каждое
соревнование приносило новый мировой рекорд. В
Риге поправку в таблицу мировых достижений внёс
полулегковес Николай Саксонов, вырвавший 107,5 кг,
а когда через месяц мы съехались в Таллин на
первенство страны, Юрий Дуганов установил мировой
рекорд для атлетов полусреднего веса, подняв в
рывке 131 кг.

Для меня и для Аркадия эти соревнования
окончились победой. Я стал чемпионом страны в
среднем весе,

Аркадий — в полутяжёлом. Но красная
майка чемпиона досталась Воробьёву только после
напряжённой борьбы с молодым штангистом Фёдором
Осыпой.
После окончания соревнований мы с Аркадием
отправились осматривать город. Мы бродили по
узким старинным улочкам Таллина, по его
тенистым паркам и не заметили, как оказались
в Вышгороде. Внизу под нами, краснея черепицами
крыш и вздымая к небу остроконечные шпили,
лежал старинный город, а за ним расстилалось
море, серовато-серебристое, неоглядное,
прочерченное то здесь, то там дымка́ми
пароходов.
Мы остановились у решётки, и Аркадий, помолчав,
сказал:
— Смотрю я на море, Трофим, и кажется, что я
только вчера плавал с десантом, что только
вчера вошёл в атлетический зал... Ведь сколько
лет прошло... У меня уже растёт дочь, скоро
мне вручат диплом врача, а вчерашний день, —
вот он, рядом, как это море...
— Знаешь, Аркадий, у меня было такое же
чувство, когда я приезжал на Алтай. Да-да, я
там почувствовал, что вот совсем-совсем недавно
промывал песок на грохоте, перекапывал с отцом
тонны земли, чтобы взять у неё одну золотую
крупинку...
Мы долго стояли молча, вспоминая свою жизнь и
стараясь заглянуть в будущее.
На помосте в Стокгольме
Прошло три месяца с того дня, когда мы гуляли
по улицам Таллина, любовались панорамой
древнего города, светлыми просторами Балтийского
моря. И вот мы с Воробьёвым снова начали
готовиться к борьбе на помосте.
"Как, опять соревнование? — возможно, спросит
кто-нибудь из читателей. — Не
слишком ли много соревнований?"
Но что поделаешь, ведь борьба, соревнования —
сама суть спорта. Каждая новая встреча с
противником — это новая веха в жизни спортсмена.
И даже если очередное состязание кончается
неудачей, оно всё равно несёт в себе зародыш
успеха. В борьбе закаляется воля, растёт
мастерство. Всё это, конечно, так, но в той
борьбе, к которой мы с Аркадием начали
подготовку, о неудаче, о поражении не могло
быть и речи: советские штангисты готовились к
новой встрече со штангистами США.
26 августа 1953 года в столице Швеции Стокгольме
должен был начаться розыгрыш первенства мира.
Мы понимали, что после поражения в Хельсинки
"Барбелл компани" и её хозяин Гофман сделают всё
возможное, чтобы взять реванш.
Вот почему и мне, и Воробьёву, так же как и
Удодову, Саксонову, Чимишкяну, Иванову, Дуганову,
Осыпе, — всем штангистам, готовившимся к отъезду
в Стокгольм, предстояла одна задача: добиться
максимального успеха и этим обеспечить победу
команде СССР.
Каждому из нас важно было не только набрать
наибольшую сумму килограммов, выиграв личное
первенство, но ещё и принести команде наибольшее
количество очков.
По условиям первенства мира атлет, завоевавший
первое место, приносит своей команде пять очков,
занявший второе — три очка, а занявший третье
место — одно очко.
Таким образом, команде СССР, так же как и на
Олимпийских играх, было не так уж важно, кто
в предстоявшем поединке между мной и
Воробьёвым станет чемпионом мира. Нам
необходимо было занять первое и второе места
и этим самым внести в общую "кассу" восемь
полновесных очков.
И всё же, готовясь к новой борьбе на помосте
в Стокгольме, и я, и Аркадий мечтали о том,
чтобы завоевать золотую медаль. Но, как и
всегда, это не отразилось на наших отношениях.
Мы решили тренироваться вместе и 10 августа,
взяв отпуск, отрешились от всех своих дел: я
— от работы в штабе, Аркадий — от учёбы в
институте.
Мы поселились в Звенигороде на берегу
Москвы-реки. Всё здесь дышало покоем и тишиной.
Глаз отдыхал и на просторе заливных лугов,
раскинувшихся за рекой, и на тёмной зелени
сосновых лесов. Родные нам картины русской
природы заставляли вспоминать о рассказах
Чехова, о картинах Левитана. А побывав в
местном музее, мы и в самом деле узнали, что
Чехов и Левитан жили и творили в Звенигороде.

Мы начали по-новому смотреть на левитановские
картины, выставленные в Звенигородском музее.
Вот уютная деревенская улочка, вот ярко-зелёная
долина реки, вот покрытые густым лесом холмы.
Как всё это знакомо, как близко нам... И во
время прогулок окрестности Звенигорода казались
нам ожившими творениями великого российского
пейзажиста.
Но и сюда, в эти укромные места, доносились
отзвуки той борьбы, которая после небольшого
затишья с новой силой начала бушевать в мире.
Американцы снова полезли вон из кожи, пытаясь
расколоть мир на две половины, вызвать гнев,
недоверие и вражду между народами. Мы каждый
день читали об этом в газетах.
Для нас — небольшого отряда советских людей,
готовившихся к встрече с американцами на
крупнейших спортивных соревнованиях, — эти
вести звучали особенно тревожно. Ведь Боб
Гофман — это соратник тех, кто ведёт
"холодную войну" во всех областях
политической и культурной жизни. Значит,
нам следовало оказаться готовыми к тому,
что спортивное соревнование — средство
установления дружбы между людьми разных
стран — могло быть использовано как
средство раздора. Боб Гофман не постеснялся
бы использовать для этого не только силу и
мастерство своих атлетов, но и своё влияние
на судей, а также и все закулисные
махинации. 8
Ведь поражение на помосте для Гофмана — это
коммерческая и политическая неудача. Если
американские штангисты проигрывают, то чего
же тогда стоит самая совершенная йоркская школа
тяжёлой атлетики, которую он так настойчиво
рекламирует на страницах своего журнала, на
помостах всех соревнований, где выступают его
"лошадки" — как называет Боб Гофман штангистов
национальной команды США? Если американские
штангисты проигрывают, то они подрывают один
из основных тезисов "холодной войны" — о
превосходстве всего, что имеет марку "Сделано
в США".
Эти мысли подтверждались фактами. Руководители США
использовали намечавшееся соревнование команды
советских шахматистов с шахматистами Америки для
того, чтобы создать ещё один, пусть даже и
небольшой, очаг напряжения. Разве не для этого
они в последний момент, когда наши шахматисты
уже готовились к отплытию из Парижа в Нью-Йорк,
поставили такие оскорбительные условия их
пребывания в США, что пришлось отказаться от
поездки? И разве не под этим же флагом вражды
проводилась по всем 48 штатам Америки кампания,
инициатором которой являлась крупнейшая спортивная
организация США "Аматор атлетика юнион"? Эта
организация уже с весны 1953 года, готовясь к
Олимпийским играм 1956 года, бросила лозунг: "На
Олимпийских играх в Мельбурне мы должны одержать
победу над Россией".
Так разве Боб Гофман и те круги, которые стоят
за ним, не готовы сделать всё возможное, чтобы
ещё до Мельбурна "одержать победу над Россией"
в Стокгольме?
Мы ещё и ещё раз перелистывали последние номера
американского журнала Боба Гофмана "Сила и
здоровье" — на его страницах ничего не
изменилось. По-прежнему в глаза бросались
рекламные заголовки, а со снимков на нас
смотрели, задрав носы, всевозможные "мистеры
Калифорнии", "мистеры Пенсильвании", "мистеры
Алабамы" — премированные красавцы США.
Борьба за первенство мира началась задолго до
того дня, когда все участники соревнований
собрались в Стокгольме.
Задача у меня и у Аркадия была одна: поднять в
сумме трёх движений 435 кг, что превышало мировой
рекорд, но пути к победе у нас были разные. Я
надеялся поднять в жиме 132,5 кг,
в рывке 132,5 кг, а в
толчке 170 кг. Аркадий рассчитывал набрать
рекордную сумму, подняв в жиме 127,5 кг, в
рывке 137,5 кг, а в толчке столько
же, сколько и я.
Перед нами стояла трудная задача, но мы верили в
успех и с каждым днём убеждались, что наши силы
крепнут.
Мы были уверены, что Станчику вряд ли удастся
вклиниться между нами, как он сделал это в
Хельсинки. Но только ли со Стенли Станчиком
нам нужно было бороться в Стокгольме?
Американцы хвастливо сообщали об успехах своих
лучших атлетов. Они утверждали, что их молодой
тяжеловес Джеймс Бредфорд поднимает в сумме трёх
движений 472,5 кг, а Джон Дэвис даже
на 2,5 кг больше; что Томми Коно,
выступавший на Олимпийских играх в Хельсинки в
лёгком весе, поднимает теперь в полусреднем
весе 420 кг.
Эти сообщения свидетельствовали о следующем.
Во-первых, о том, что Боб Гофман предполагает
добиться победы в командном первенстве руками
двух негритянских спортсменов, а во-вторых, о
том, что Коно может быть выставлен в среднем
весе для подкрепления Стенли Станчика. На этих
трёх спортсменах и основывал свои планы Гофман.
Американцы достаточно хорошо знали наши силы,
чтобы понимать, что после выступления
штангистов первых пяти весовых категорий
команда СССР уйдёт далеко вперёд. В самом деле,
нам была обеспечена победа в легчайшем весе:
американцы не имели противника для Ивана
Удодова. Мы также должны были завоевать два
первых места в полулёгком весе, где выступали
Рафаэл Чимишкян и Николай Саксонов. Мы также
предполагали, что в лёгком весе наш молодой
товарищ Дмитрий Иванов сможет занять первое
место. В полусреднем весе, где наши шансы
были значительно хуже, Юрий Дуганов мог всё же
рассчитывать на третье место. Но тренерский
совет команды решил не выставлять участника в
полусреднем весе. "Одну штатную единицу",
имевшуюся в нашем распоряжении, мы предполагали
использовать в полутяжёлом весе. В борьбу с
Шеманским должен был вступить Фёдор Осыпа, у
которого были все шансы на серебряную медаль,
а значит, на три очка.
Таким образом, если я и Аркадий занимали бы
в среднем весе первое и второе места, то наша
команда набирала 29 очков, в то время как
американцы перед началом борьбы тяжеловесов
могли иметь только 17 очков.
Боб Гофман, не скрывавший возможностей Дэвиса
и Бредфорда, видимо, хотел убедить всех, что
первое и второе места в тяжёлом весе ему уже
обеспечены. Однако и в этом случае американцы
набирали только 25 очков. Но мы знали, что
данная задача для них невыполнима. Тут должен
был сказать своё веское слово канадец Даг
Хэпбурн.
Мы много слышали об этом удивительном силаче.
Не так давно у себя на родине Хэпбурн
установил мировой рекорд для атлетов тяжёлого
веса в жиме. Хэпбурн никогда не выступал на
международных соревнованиях. Он восемь лет
готовился к борьбе с Дэвисом, и вот теперь
ожидалось его участие в первенстве мира.
Нельзя было сбрасывать со счетов и Хумберто
Сельветти — аргентинского тяжелоатлета,
занявшего в Хельсинки третье место.
Да, американцам вряд ли удалось бы занять два
первых места в тяжёлом весе, и наша задача
заключалась в том, чтобы с точностью до
одного очка выполнить свой победный график.
Удастся ли это? Ведь одно дело — расчёты, а
другое — действительность. Неизвестно, как
сложится борьба не на листе бумаги, а на
помосте.
Чем ближе был день отъезда, тем больше крепла
наша уверенность, что дни отпуска проведены
не впустую, что мы готовы к трудной борьбе. И
вот наконец закончились последние сборы,
были выслушаны последние напутствия, уложены
чемоданы, и 21 августа мы снова, в который уже
раз, оторвались от родной земли, бросили
прощальный взгляд на рощи Подмосковья, на
извилистую ленту Москвы-реки — места, где мы
фактически начали борьбу с американцами, — и
самолёт взял курс на северо-запад. Вечером мы
приземлились на стокгольмском аэродроме.
Этот резкий переход от тихой загородной жизни
к обстановке незнакомого города и вообще чужой
страны очень взбудоражил всех нас. Хотелось
спокойно оглядеться, собраться с мыслями, но
с первых же шагов стало ясно, что в планы Боба
Гофмана это не входит.
Ещё на аэродроме мы узнали, что команда США
во главе со своим боссом уже несколько дней
находится в Стокгольме и что Гофман успел
выдать шведским спортивным обозревателям первую
порцию широковещательных авансов.
Мы прочитали в стокгольмских газетах
высказывания Гофмана о том, что "русские сильны,
но мы ещё сильнее", "мы уверены в своей победе",
что "Даг Хэпбурн вряд ли сможет составить
конкуренцию Дэвису и Бредфорду", что "Коно будет
бороться за первенство в среднем весе". А на
следующий день, открыв утренние газеты, мы
увидели такие заголовки: "Кто победит? Русские
или американцы?", "Русские приехали и исчезли.
Все попытки найти их не увенчались успехом",
"Тренировки советской команды будут проходить
в неизвестном месте за железным занавесом".
Что можно было ответить на эти заявления?
Лучше всего было направиться на улицу
Стругатен, дом двадцать, где тренировались все
участники первенства. Именно так мы и поступили.
В тот момент, когда мы появились в зале,
американская команда уже кончила свою
тренировку. Ещё с порога я увидел Боба Гофмана,
его крючковатый нос и помятое лицо, сразу же
расплывшееся в вежливой улыбке. У стены на
скамеечке сидели в ряд Питер Джордж, Томми Коно,
Дэвид Шеппард и Стенли Станчик. Гофман направился
нам навстречу, пожал всем руки и, как хозяин,
пригласил в зал. Когда он повернулся, я увидел
у него на спине надпись: "Соединённые Штаты
Америки. 1953 год. Тяжелоатлетическая
команда". Большие белые буквы на красной кожаной куртке.
А Гофман непрерывно произносил своё "хэлло,
хэлло" и бесцеремонно похлопывал всех по плечам.
Когда мы подошли ближе, то в глаза мне прежде
всего бросилось измождённое лицо Питера Джорджа.
Он сидел безразличный, вялый и бледно улыбался
нам. Я переглянулся с Аркадием и шепнул ему:
"Будет выступать в лёгком весе. Много согнал".
Аркадий кивнул.
Рядом с Джорджем сидел Коно, как обычно,
замкнутый, необщительный. Шеппард, закинув ногу
на ногу, жевал резинку. Стенли Станчик, увидев
нас, вскочил и радушно пожал всем руки. Уже
отвыкнув от ломаного русского языка Станчика,
мы не сразу поняли смысл его слов, но широкая
улыбка красноречиво говорила о том, что наш
старый соперник искренне рад встрече с нами.
Завязалась беседа, в которой было больше
жестов, чем слов, а Гофман всё похлопывал нас
по плечам, и вдруг я почувствовал, что его
пальцы быстро скользнули с моего плеча по
руке и воровато прощупывают мышцы.
Это была первая разведка. Гофман пытался хотя
бы мельком проверить, в хорошей ли мы форме. И
тут же, словно подкрепляя его действия, вперёд
выдвинулись два каких-то длинноногих развязных
джентльмена и, представившись корреспондентами
Ассошиэйтед пресс, стали осыпать вопросами
Николая Ивановича Шатова. Корреспонденты хотели
знать, как расценивает Шатов шансы своей команды
на победу, кто окажется победителем в среднем
весе — Воробьёв или Ломакин, кто из советских
спортсменов будет выступать в какой весовой
категории и т.д.
Но эта первая разведка дала американцам совсем
немного. Мы, во всяком случае, узнали больше:
Питер Джордж будет выступать в лёгком весе.
Это значило, что Дмитрию Иванову предстоит
серьёзная борьба. Теперь следовало выяснить, куда
Боб Гофман будет ставить Томми Коно, следует ли
верить его заявлениям, что японец с Гавайев,
защищающий флаг США, переходит в
средний вес. Это имело большое значение для
разработки тактических планов нашей команды.
На следующий день, взвешиваясь перед тренировкой,
я услышал за спиной вкрадчивый голос Коно: "О,
корошо!" — и его палец упёрся в стрелку весов,
показывавших мои 82 кг 50 г.
Я кивнул и показал Коно: "Становись!" Японец,
продолжая улыбаться, шагнул на весы, но в тот
же момент раздался хриплый, сердитый голос
Гофмана, и Коно шмыгнул в сторону.
После этого мы окончательно поняли: Коно — это
главная тактическая загадка Гофмана. Но вместе
с тем нам стало ясно, что американцы не
очень-то уверены в своих силах: раньше они
никогда не скрывали весовых категорий своих
атлетов.
А тут ещё произошёл несчастный случай с Фёдором
Осыпой. На одной из последних тренировок Осыпа
растянул себе ногу. И хотя он был готов сделать
всё для команды, тренерский совет решил не
выставлять его на соревнования, чтобы не
рисковать здоровьем молодого многообещающего
атлета. На этом команда теряла два драгоценных
очка, потому что вместо трёх очков, которые мы
ждали от Осыпы, Дуганов мог принести только
одно.
Если учесть, что с переходом Питера Джорджа в
лёгкий вес первое место Иванова оказывалось
под угрозой, мы могли набрать не 29 очков,
как предполагали в Москве, а только 25.
Не решён был и вопрос о том, где будет
выступать Аркадий Воробьёв. Когда Боб Гофман
узнает, что мы выставляем Юрия Дуганова, для
него не будет тайной отсутствие советского
спортсмена в полутяжёлом весе, и он сможет
перебросить туда Стенли Станчика. Ведь в борьбе
со мной и Воробьёвым Станчик мог рассчитывать
только на третье место, а при отсутствии Осыпы
он имел все шансы занять в полутяжёлом весе
второе место после Шеманского. Как следовало
поступить в таком случае? Значит, в интересах
команды Воробьёву следовало тоже перейти в
полутяжёлый вес, чтобы и там отодвинуть Станчика
на третье место. Но в борьбе с Шеманским Аркадий
мог рассчитывать только на серебряную медаль, в
то время как в борьбе со мной он имел равные
шансы на золотую.
Когда Аркадия познакомили с создавшейся
обстановкой и спросили, готов ли он ради
интересов команды перейти в полутяжёлый вес,
Воробьёв, не раздумывая ни секунды, ответил:
"Да, конечно, готов". И я ещё раз оценил
спокойное мужество и благородство моего друга.
Быстро летели дни. Мы осматривали столицу Швеции,
посещали музеи, знакомились с жизнью и бытом
незнакомой страны. Но где бы мы ни были, в глаза
бросались афиши, призывавшие стокгольмцев в зал
Эриксдальхалле, где 26 августа должно было
начаться первенство мира по поднятию тяжестей.
Мы успели познакомиться почти со всеми
участниками первенства. В тренировочном зале
не было видно только одного спортсмена — Дага
Хэпбурна. Неужели канадец не приедет, неужели
он не опровергнет хвастливых заявлений
Гофмана?
Как-то, встретившись с английскими атлетами, я
спросил их: "Где же Хэпбурн?" Тренер англичан
смущённо развёл руками:
— Даг собирает деньги на поездку. Он ведь
работает спасателем на водной станции и денег
у него нет.
Так вот, оказывается, в чём было дело! Один из
сильнейших штангистов мира, восемь лет
готовившийся к встрече с тяжеловесами США,
собирал по подписному листу деньги, чтобы
приехать в Стокгольм!
Наконец наступило 26 августа. В шесть часов
вечера мы подъехали к крупнейшему спортивному
залу шведской столицы. Вся улица была заполнена
оживлённой толпой. Приходилось буквально
пробиваться к входу, и каково же было наше
удивление, когда у самых дверей мы вдруг
услышали произнесённые на русском языке слова:
— Смелее, ребята! Надеемся на вас!
Оказывается, команда советского корабля, узнав
о нашем выступлении, пришла, чтобы подбодрить
земляков. Как волнующе радостно звучали на
чужбине слова родного языка! На одно мгновение
мне даже показалось, что я в Москве, у входа в
зал Дворца спорта на Ленинградском шоссе — и
так легко и спокойно стало на душе...
...Мы все стояли на высоком помосте, по
левую руку от нас — немцы, по правую —
американцы. Шёл торжественный ритуал открытия
соревнований. Мелькали белые судейские костюмы,
вспыхивали лампы фотокорреспондентов, а из
зала на нас были устремлены тысячи глаз —
равнодушных, враждебных, приветливых...
Через полчаса все советские спортсмены, кроме
Удодова, уже сидели на местах зрителей. Наш
товарищ Ваня Удодов должен был первым внести
частицу своих усилий, своего умения в общий
фонд победы.
Нельзя было без гордости наблюдать за действиями
этого замечательного спортсмена. Каждая его
попытка завершалась успехом, каждый выход к
штанге вызывал всё более восторженные
аплодисменты зрителей. Удодов появлялся на
помосте тогда, когда остальные участники уже
завершали свои усилия.
Целиком захваченный происходившими на помосте
событиями, я забыл обо всём и не сразу
почувствовал, что кто-то дёргает меня за рукав.
Это был Рубен Леонович Еганян, врач нашей
команды, с которым мы успели крепко подружиться.
Еганян прошептал мне на ухо:
— Трофим Фёдорович, посмотри, вон Хэпбурн!
Я посмотрел туда, куда указывал Еганян, и
увидел исключительно мощного, почти квадратного
человека, вокруг которого уже вертелись
американцы. Среди них был и Боб Гофман. Он
ласково улыбался, так же как и нам при первой
встрече, и его пальцы знакомым мне движением
скользили по плечам и рукам могучего канадца.
Итак, Даг Хэпбурн всё же собрал деньги на
поездку в Стокгольм...
Как и следовало ожидать, Иван Удодов уверенно
завоевал первое место. Из девяти имевшихся в
его распоряжении попыток он успешно использовал
восемь. Замечательный результат!
И вот Иван взошёл на пьедестал почёта. Справа
от него стоял египтянин Кемаль Махгуб, занявший
второе место, слева — чех Карел Сайтл, занявший
третье.
Итак, мы набрали первые пять очков. Но американцы
ещё не вступали в борьбу. Они не принимали
участия и в соревновании штангистов полулёгкого
веса. Всё было ещё впереди.
В ту ночь я волновался так, словно мне
предстояло завтра выйти на помост мирового
первенства. Рафаэл Чимишкян ещё в Москве
стал мне близким другом, и теперь я
тревожился вместе с ним. Конечно, Рафаэлу
хотелось добиться такого же внушительного
успеха, как и в Хельсинки на Олимпийских
играх. Но так же, как и в Хельсинки, ему
предстояла борьба с Николаем Саксоновым,
невозмутимым уральским крепышом. Чем
кончится схватка двух сильнейших полулегковесов
мира, предсказать не мог бы никто.
Мы проговорили с Рафаэлом до полуночи, и не
расстались утром. Хотя мне рекомендовалось
поменьше бывать в Эриксдальхалле, чтобы не
растрачивать зря нервной энергии, я не
удержался и отправился туда вместе с
Чимишкяном.
Уже давно закончили свои попытки финн,
итальянец и швед, когда на помост поднялся
Николай Саксонов. 90 кг легко поднялись в
воздух. Настала очередь Чимишкяна. Он так
же легко одолел вес.
— На штанге девяносто пять килограммов, —
объявил секретарь соревнований.
Саксонов снова выжал штангу. Однако ему не
удалось оторваться от Чимишкяна — Рафаэл
выжал этот же вес.
На штангу установили ещё два с половиной
килограмма. Саксонов прилагал все усилия для
того, чтобы зафиксировать вес, но тщетно.
Чимишкян же легко выжал эти 97,5 кг и вышел
вперёд. Однако в рывке Рафаэла постигла
неудача. Он поднял только 100 кг в то время,
когда Саксонов сумел зафиксировать на пять
килограммов больше. Итак, Николай Саксонов
оказался впереди на два с половиной килограмма,
и это обеспечило ему победу, поскольку
Саксонов обогнал Чимишкяна на 2,5 кг ещё в
толчке.
Рафаэл Чимишкян остался на втором месте, но
разве это было поражением? Оба полулегковеса
принесли команде восемь очков, то есть
максимум того, что могли принести. Наш
победный график пока выдерживался абсолютно
точно.
Но вот наступила очередь Дмитрия Иванова.
Сможет ли он завоевать первое место в борьбе
с таким противником, как американец Питер
Джордж?
За час до начала соревнований на взвешивании
мы узнали, что наши догадки были правильными:
Боб Гофман перебросил в лёгкий вес Питера
Джорджа, одного из сильнейших своих атлетов.
Джорджу пришлось сбросить семь килограммов
для того, чтобы получить право выступать в
этой весовой категории.
Да, Иванову предстояла нелёгкая борьба. Теперь
это было ясно всем. И хотя мы понимали, что для
молодого штангиста большим успехом будет и
второе место, но всё же не теряли надежды на
то, что Дмитрию удастся выполнить свою задачу и
принести команде столь важные пять очков.
Как же мог я не быть в эти часы в
Эриксдальхалле? Мне с трудом удалось вымолить
у Механика разрешение посидеть на соревновании
хотя бы час, посмотреть, как пройдёт жим.
Джордж начал жим со 100 кг, Иванов включился
в борьбу, когда на штанге стояло на 5 кг больше.
На штангу поставили 107,5 кг. Джордж не смог
использовать свою последнюю попытку, а Иванов,
пропустив этот вес, уверенно поднял
сначала 110 кг, а затем и 112,5 кг.
Таким образом, после первого же движения наш товарищ
оторвался от американца на 7,5 кг.
Молодой советский спортсмен не дрогнул, не
испугался. Он смело боролся за победу. И как же
я мог уйти в такую минуту? С ещё большим трудом
удалось вымолить у Механика разрешение остаться
на рывок. Но когда Джорджу и здесь не удалось
сократить образовавшийся разрыв — оба
спортсмена подняли штангу весом 115 кг,
— мой тренер буквально выставил меня из зала.
Куда же деваться? Вместе с Воробьёвым и Осыпой я
пошёл в кино, чтобы как-нибудь скоротать время.
Мы плохо видели, что происходит на экране.
Перед нашими глазами был помост, на котором в
это время завершалась борьба между Питером
Джорджем и Дмитрием Ивановым.
Когда мы вернулись в гостиницу, то узнали, что
борьба закончилась победой Джорджа. Американец
использовал в толчке все три попытки. Он
поднял 140 кг, 147,5 кг и,
наконец, 150 кг.
Иванов сохранял шансы на победу до последней
минуты. Подняв 137,5 кг, он дважды пытался
толкнуть 142,5 кг. Если ему удалось бы
это сделать, то Джорджу для победы пришлось бы
поднимать 152,5 кг — что с учётом физического
состояния американца после сгонки веса было
почти невыполнимой задачей. Но у нашего атлета,
видимо, не хватило сил для заключительного
движения. Ну что же, второе место на
чемпионате мира и золотая медаль чемпиона
Европы — отличный результат для спортсмена,
впервые участвовавшего в таких соревнованиях.
(На первенстве мира в Стокгольме одновременно
разыгрывалось и первенстве Европы.)
Так в наши предварительные расчёты были
внесены две существенные поправки: выход из
строя Фёдора Осыпы и второе место Дмитрия
Иванова.
Наступил тот день, когда мы наконец должны
были узнать, в какой весовой категории будет
выступать Томми Коно: в полусреднем весе или
же в среднем, как это утверждал Боб Гофман.
Мы с волнением ждали взвешивания участников.
Они один за другим поднимались на весы, а
Коно всё не было видно. Только за пять минут
до конца взвешивания японец наконец предстал
перед судьями. И мы узнали, что Коно будет
бороться за первенство в полусреднем весе.
Стало окончательно ясно, что Дуганов в
борьбе с Коно и Шеппардом больше одного очка
команде принести не сможет.
Как хотелось мне в тот день сидеть в
Эриксдальхалле — но тренеры были неумолимы.
Ведь приближался тот час, когда в дело
предстояло вступить и нам, средневесам.
Итак, мне не пришлось стать свидетелем
событий, происходивших в тот день на помосте
в Стокгольме. И всё же я совершенно ясно
представлял себе малейшие перипетии этой
борьбы. Я видел самоотверженные усилия Юрия
Дуганова, уверенные движения Томми Коно и
предельное напряжение Дэвида Шеппарда.
Шеппарда мы впервые увидели в 1951 году
в Вене, а в Стокгольме из газет узнали, что
Дэвид, будучи ещё мальчиком, играл сына
Тарзана в известной кинокартине. Кто не
помнит гибкого красивого малыша, который
спасался от львов и крокодилов, проносился
на лианах над смертельными трясинами и стоял
рядом со своим могучим отцом, смело глядя в
глаза опасности? Может быть, поэтому, а
может, потому, что Шеппард, встречаясь с
нами, всегда напевал своим приятным голосом
романсы Чайковского и добродушно улыбался,
он понравился нам. И мы все хотели, чтобы
Шеппард оказался впереди сумрачного,
скрытного Коно, заставившего нас поломать
головы над загадкой его веса. Но Коно был
слишком силён. Он уверенно двигался к победе.
В каждом своём движении японо-гаваец
обгонял своих противников. В жиме он
поднял 120 кг, в рывке —
столько же, а в толчке
зафиксировал 167,5 кг.
Шеппард прилагал все усилия, чтобы догнать
Коно. Во время третьей попытки, стремясь
толкнуть штангу весом 157,5 кг, он внезапно
со стоном упал на помост. Молодой атлет
растянул себе мышцу, но ни Боб Гофман, ни
тренеры команды США не обратили никакого
внимания на своего товарища: они были заняты
Коно.
И тогда к американцу бросились врач нашей
команды Рубен Леонович Еганян и противник
Шеппарда — Юрий Дуганов. Они помогли
американскому спортсмену уйти за кулисы. Там
Еганян облегчил Шеппарду боль. На следующее
утро мы увидели в одной из стокгольмских
газет снимок: Шеппард беспомощно лежит на
полу, а над ним заботливо склонились два
советских человека. Газета писала о гуманизме
советских людей, о благородстве их поступка...
Но вернусь к тому, что происходило на помосте.
Как мы и предполагали, первенство в
полусреднем весе выиграл Коно. На втором месте
оказался Шеппард, на третьем — Дуганов,
завоевавший золотую медаль чемпиона Европы.
При создавшейся обстановке судьба командного
первенства мира зависела от меня и Воробьёва.
Ведь мы завершали выступление команды, наши
восемь очков были последним вкладом в сумму
общих усилий, а я ещё за час до взвешивания
не знал, где будет выступать Аркадий — в
среднем весе или в полутяжёлом.
Никогда раньше взвешивание не приносило нам
стольких волнений. Мы снова с трепетом ждали
того момента, когда встанем на платформу
весов, когда окончательно выяснится состав
участников.
Первым на весы поднялся я.
— Восемьдесят два килограмма пятьдесят граммов,
— объявил судья.
А вот Аркадий даже не подходил к весам. С
равнодушным видом он сидел в зале и беседовал
с товарищами. Станчика тоже не было видно.
Один за другим выходили остальные участники
первенства, а мы ждали — появится ли Станчик?
Было видно, как волнуется Гофман, как он
поглядывает на Воробьёва. На весах побывали
уже шесть спортсменов. Оставались только двое
— Станчик и Воробьёв. И вот мы увидели, как
Станчик сбросил халат и, словно нехотя,
поднялся на платформу весов. Всё стало понятно:
Станчик будет выступать с нами. Значит,
Воробьёву тоже нужно выступать в среднем весе.
Едва только американец сошёл с весов, как к
ним быстро направился Аркадий, и я увидел
растерянное лицо Гофмана. Ведь, несмотря на
все уловки босса американцев, Станчик оказался
блокированным — было понятно, что выше
третьего места ему прорваться не удастся.
Теперь все окружили весы. Американцев очень
интересовало, сколько весит Воробьёв — а вдруг
он даже не имеет права соревноваться в среднем
весе? Но стрелка весов показала 82 кг 350 г.
Это был почти предел. Всего 150 граммов
отделяли Аркадия от полутяжёлого веса. Ему
достаточно было выпить перед взвешиванием два
стакана воды, чтобы оказаться в одной
компании с Шеманским.
Едва окончилась, казалось бы, в нашу пользу
эта понятная лишь немногим посвящённым
схватка, как нам был нанесён неожиданный
удар. Мы узнали, что судьёй-фиксатором
состязания атлетов среднего веса назначен
Гофман.
Это сообщение потрясло меня. Разве Гофман
мог быть беспристрастным судьёй в борьбе
советских и американского штангистов? Как
он согласился на это? Как могла судейская
коллегия предоставить ему такую возможность?
Я видел, как сдержанный и внешне спокойный
Аркадий Воробьёв гневно сжал кулаки: слишком
хорошо был знаком нам владелец "Барбелл
компани". Мы понимали, что Гофман будет не
судьёй, а участником схватки, он сделает всё
возможное, чтобы затруднить нам достижение
победы.
Последние минуты перед выходом на помост я
провёл в одной комнате с Аркадием. Мы молча
лежали на своих койках и медленно ели шоколад,
принесённый нам Рубеном Леоновичем. Но вот
появились Механик и Куценко. Значит, пора было
идти на помост.
Зал встретил наше появление взволнованным
гулом. За столом жюри сидел президент
Международной федерации тяжёлой атлетики. Места
прессы были заполнены до отказа. Вокруг ярко
освещённого помоста восседали трое судей.
Когда я вышел к штанге, то прежде всего увидел
прямо перед собой одутловатое лицо Боба
Гофмана, но, наклонившись к грифу, я сразу
забыл обо всём. Воробьёв уже выжал 120 кг,
Станчик поднял 125 кг. Теперь настал мой черёд.
Вот штанга легла на грудь. Пора! Вес пошёл
вверх. Сантиметр за сантиметром он поднимался
над моей головой.
Первая попытка оказалась удачной. Пусть Гофман
только попробует не засчитать её... Вспыхнули
сразу три белые лампочки, и одна из этих
лампочек, утверждавших мою попытку, была
зажжена рукой американского босса.
На штангу установили 127,5 кг. Воробьёв взял
этот вес, а я и Станчик пропустили.
Штангу весом 130 кг Станчик поднял на грудь.
Он пытался выжать её, прилагал все усилия, но
тяжесть штанги словно придавила его к земле.
Тогда, вопреки всем правилам, Станчик отклонил
корпус назад и дожал-таки штангу.
Мы смотрели во все глаза: неужели американцу
засчитают эту попытку? Вспыхнула красная
лампочка, затем белая. Гофман медлил. Но вот
и он включил свою лампочку... белую.
В зале раздался возмущённый гул. Из задних
рядов донёсся свист. Но что значил этот
свист для Боба Гофмана, — ведь попытка
Станчика была уже засчитана, засчитана с
его помощью.
"Ничего, обойдусь без помощи американского
фабриканта", — с этой мыслью, полный
возмущения, я стремительно вышел на помост
— и не успел опомниться, как штанга
оказалась над моей головой.
Итак, пока мы шли голова в голову со Станчиком,
а на штанге установили уже 132,5 кг.
Американец снова вышел на помост. Но на сей раз
он уже не смог выжать штангу. И его не спасла
бы никакая помощь.
Оставалась моя последняя попытка. Удастся ли
поднять вес, который запланирован в моём
графике?
Подходя к штанге, я старался представить себе,
что нахожусь не в Стокгольме, а на одной из
тренировок в Звенигороде. Вокруг меня любимые
рощи, я дышу запахом подмосковных полей... Не
надо напрягаться. Ведь это же тренировка. А
сколько раз на прикидках мне удавалось спокойно
поднимать этот вес... И здесь, в Эриксдальхалле,
под немигающим взглядом Гофмана я поднял эту
штангу. Я держал её над головой, дожидаясь того
момента, когда Боб Гофман хлопнет в ладоши и
разрешит мне опустить вес. Прошла одна секунда,
вторая, Гофман не торопился. Он тянул, он всё
на что-то надеялся. Наконец его ладони
издали хлопок. Можно было опускать штангу: вес
засчитали.
Таким образом, после первого движения я оказался
на пять килограммов впереди Воробьёва и на два
с половиной килограмма впереди Станчика. Теперь
нужно было благополучно пройти рывок — и победа
будет за мной. В толчке Аркадий не сможет
ликвидировать разрыв, а Станчик тем более.
Первым рывок начал Станчик. На штанге
стояло 125 кг. Он не смог поднять
её в первой попытке и зафиксировал вес только
во второй. Я поднял 127,5 кг.
Аркадий пропустил вес и вышел на помост,
только когда на штангу поставили 130 кг.
Как спокоен, как уверен в себе был мой
товарищ! Я слышал, как в перерыве Еганян
спросил Воробьёва:
— Может быть, ты чего-нибудь хочешь, Аркадий?
— Нет, Рубен Леонович, я чувствую себя хорошо.
Аркадий, видимо, был уверен, что в своём коронном
движении он сумеет догнать меня. 130 кг в одно
мгновение оказались над его головой.
Когда Станчик попытался зафиксировать этот вес
и штанга грохнулась на пол, зал разразился
аплодисментами. Я думаю, что зрители радовались
не поражению американца. В тот момент антипатия
зала к американской команде ещё не
чувствовалась — зрители только теперь поняли
всю красоту и мощь рывка Воробьёва.
Итак, Станчик закончил рывок, но Боб Гофман
продолжал борьбу. Пропустив вес 130 кг, я
заказал 132,5 кг и уверенно поднял штангу.
Зная, что попытка удалась, я под аплодисменты
зала сошёл с помоста и вдруг увидел, как
вспыхнула сперва красная лампочка
судьи-египтянина, затем красная лампочка
судьи-итальянца и тут же белая
— Боба Гофмана.
Я почувствовал, как у меня опустились руки. Я
неспособен был вымолвить ни слова и только
растерянно посмотрел на своего тренера.
Что мог тут объяснить Израиль Бенционович? Он
лишь протянул мне пузырёк с нашатырным
спиртом. Николай Иванович Шатов немедленно
направился к столу жюри выражать протест. Весь
зал загудел и зашикал, возмущённый действиями
судей. Я видел, как к столу жюри подошёл
Гофман, как он сокрушённо разводил руками,
показывая на свою чуть согнутую руку. Гофман
отказывался от своей положительной оценки, но
мои товарищи видели, что вес был поднят
правильно. А когда я спросил мнение Станчика,
стоявшего рядом, то он лишь смущённо пожал
плечами и сказал на своём ломаном русском
языке:
— Это потому, что я рядом... Так бы засчитали...
Ну что же, мне оставалось лишь поблагодарить
моего соперника за откровенность. Для меня
маленьким утешением был тот факт, что Станчик,
видимо, не одобрял этой грязной игры.
Попытку мне не засчитали, и зал успокоился.
После только что пережитого волнения я не
смог использовать своей последней попытки,
и теперь мне оставалось только ждать
результата Воробьёва. Зал тут же снова
загудел сотнями взволнованных голосов. Аркадий
пропустил вес 132,5 кг и потребовал поставить
на штангу 135 кг. Мой товарищ делал заявку на
победу.
Я, как всегда, со смешанным чувством наблюдал
за действиями Воробьёва. Я восхищался его
смелостью и мастерством, и вместе с тем
боялся того, что эта попытка удастся, что он
вырвется вперёд. Но нет, вторая попытка
Воробьёва оказалась неудачной. Он не смог
повторить свой мировой рекорд и, по-прежнему
невозмутимо спокойный, ушёл с помоста.
Потом он снова вышел на помост, наклонился к
штанге, к огромному весу, который удалось
однажды поднять лишь единственному человеку
в мире — самому Воробьёву. И на помосте
мирового первенства, перед лицами членов
Международной федерации тяжёлой атлетики, на
глазах Гофмана мой друг вырвал 135 кг. Вырвал
так чисто, так точно, что на сей раз не могло
быть никаких придирок. В грохоте зрительного
зала штанга неслышно упала на помост. Борьба
в рывке была закончена.
Воробьёв, усталый, оглушённый, уже собирался
сойти с помоста, когда навстречу ему,
размахивая руками, кинулся Шатов.
— Не уходи, не уходи, — кричал Николай Иванович.
— Надо взвесить штангу.
Конечно, надо было взвесить штангу. Ведь если её
вес оказался бы больше хотя бы на 500 граммов,
то это был бы мировой рекорд.
Воробьёв остался на помосте, а в это время туда
уже понесли весы. По условиям соревнований при
установлении рекорда спортсмен не имеет права
сходить с помоста. Он должен тут же взвеситься,
тут же должен быть проверен и вес штанги. Но как
Аркадий мог взвеситься, если ему для этого нужно
было сбросить с себя всё, даже трусики? Ведь вес
Воробьёва был велик, ему не хватало
всего 150 граммов для перехода в следующую
категорию. И тогда мы все встали вокруг помоста
и заслонили товарища от зрительного зала.
Воробьёв поднялся на весы, и судьи убедились в
том, что его вес не превышает установленной
нормы. Но вес штанги оказался больше на целый
килограмм. Да, это был новый мировой рекорд.
Сотни людей, присутствовавших при его
установлении, счастливые тем, что им удалось
стать свидетелями этого события, встретили
успех моего товарища громовой овацией.
Таким образом, после рывка Аркадий не только
догнал меня, но и перегнал на два с половиной
килограмма. Я слишком хорошо знал наши
возможности в толчке, чтобы понять суровую
истину: догнать Воробьёва мне не удастся. Но,
несмотря на это, моё решение было твёрдым:
продолжать борьбу до конца, сделать всё
возможное, чтобы ликвидировать разрыв. Я
стремился к этому не только для того, чтобы
завоевать золотую медаль, но и для того, чтобы
выиграть мой поединок с Гофманом.
Час отдыха, который оказался в нашем
распоряжении, пока остальные участники
соревнований вели борьбу с более лёгкими
весами, мы провели с Аркадием вместе,
обсуждая ход борьбы. О том, что уже
случилось, мы говорили охотно, но то,
что нам предстояло, обходили молчанием.
Только перед самым выходом к помосту
Воробьёв сказал мне:
— Ты не волнуйся, Трофим. Чем бы ни закончился
толчок, победим мы оба. Ведь первые два места
нам обеспечены. Считай, что наша команда
имеет 25 очков. Пусть теперь Гофман попробует
нас догнать!
Нас снова вызвали на помосте. Станчик начал
толчок со 160 кг. Я и Воробьёв вышли к штанге,
когда на неё поставили ещё 2,5 кг. Мы оба подняли
этот вес. Сразу попросили установить 167,5 кг, и
оба использовали свои попытки.
Но что же Станчик? Станчик пропустил этот вес.
— Он попробует догнать тебя, — сказал мне
Аркадий, пока мы стояли рядом, наблюдая за
действиями ассистентов.
На штангу установили 170 кг. Это была моя
последняя попытка, последний шанс догнать
Аркадия. Если я поднял бы этот вес, то у нас
оказались бы одинаковые и при этом рекордные
суммы. Ведь Воробьёв уже набрал 430 кг,
побив мировой рекорд.
Однажды мне уже удалось победить Воробьёва в
толчке. Мировой рекорд в этом движении
принадлежал мне. И я снова постарался
представить себе, что нахожусь не в Стокгольме,
а в Москве и собираюсь бить мировой рекорд
Аркадия. Тогда мне это удалось совершить.
Почему же удача не может прийти ещё раз?
"Смелее, Ломакин, смелее!" — сказал я себе и
с этой мыслью стремительно подошёл к штанге.
Подрыв — и штанга оказалась у меня на груди.
Половина движения была сделана. Теперь надо
было подняться, приставить ногу. Но в тот
момент, когда я попытался подвернуть локти,
весь захваченный борьбой с огромной тяжестью,
давившей и сгибавшей моё тело, то
почувствовал, что движения теряют
собранность, слитность. И когда штанга была
брошена на помост, я отошёл в сторону, уже
зная, что мировое первенство завоёвано
Воробьёвым.
Итак, я занял второе место. Второе? Нет, это
было ещё неизвестно. Ведь у Станчика оставалась
третья попытка. Он, конечно, пропустил 170 кг
— этот вес не мог его спасти. Станчику нужно
было поднимать больше.
На штангу установили 172,5 кг. Это Аркадий,
обеспечив себе первое место, решил побить мой
мировой рекорд.
Когда он вышел на помост, то в зале повисла
такая тишина, что в последних рядах, наверное,
было слышно дыхание Воробьёва. Но уже в
следующее мгновение наступившее безмолвие
сменилось грохотом полетевшей вниз штанги:
попытка Аркадию не удалась.
Поднимать штангу настала очередь Станчика. Но
американца не было. Неловкая пауза становилась
всё длиннее.
— В чём дело? — спросил я своего тренера, и в
ответ Механик показал в угол зала. Там помощники
Гофмана что-то лихорадочно писали на
листке бумаги.
— Считают, сколько надо толкнуть Станчику, чтобы
догнать тебя, — объяснил Механик.
Секретарь соревнований уже несколько раз вызывал
Станчика, и тот наконец вышел на помост —
пытаться поднять те же 172,5 кг.
Зал встретил появление американца возбуждённым
гулом. Станчик склонился над грифом и потянул
штангу вверх. Краем глаза я увидел, как Гофман
— красный, возбуждённый, — впился глазами в
своего спортсмена. Но в следующее мгновение
Гофман поблёк и отвернулся, — и тут же
послышался грохот упавшей на помост штанги.

Так закончилось выступление советской команды.
Мы набрали 25 очков. На четыре меньше, чем
думали. Но разве это было мало? Разве это был
плохой результат, если учесть, что у
американцев пока набиралось всего 14 очков?
Ведь команду Гофмана тоже могли подстерегать
неожиданности.
Наблюдая борьбу в полутяжёлом весе, мы ещё раз
пожалели о том, что у нас вышел из строя Фёдор
Осыпа. Второе место ему было бы обеспечено.
Египтянин Салех, занявший второе место, поднял
в сумме трёх движений всего 400 кг.
А результат Осыпы, не раз показанный им на
соревнованиях, был значительно выше
— 420 кг.
Теперь американцы имели уже 19 очков. В тяжёлой
весовой категории им нужно было набрать всего
шесть очков, чтобы догнать нашу команду.
Следовательно, Дэвису и Бредфорду нужно было
занять первое и третье места. Да, Боб Гофман не
ошибся, предполагая, что судьба первого места
окажется в руках двух негров.
Теперь мы оказались лишь зрителями. Рядом со
мной сидел Стенли Станчик. Я наблюдал за ним.
Он был спокоен. Его как будто бы совсем не
интересовало, чем кончится поединок двух
сильнейших команд мира.
— Дэвис? — спросил я у Станчика.
Американец пожал плечами:
— Трудно Дэвису. Даг Хэпбурн сильный противник.
— Но Гофман заявлял, что канадец не страшен
Дэвису, — напомнил я.
Станчик улыбнулся:
— О, это всё реклама. У Гофмана всё реклама. —
Помолчав и погрустнев, Стенли добавил: — Мы
все для Гофмана реклама: и я, и Дэвис, и
Шеппард. Он всех нас держит, пока мы полезны.
А потом... — и Станчик красноречиво махнул
рукой.
— А что же потом?
— Потом становишься продавцом в спортивном
магазине "Барбелл компани"... если не уволят.
Этот разговор глубоко взволновал меня. Да, мы
правильно представляли себе фигуру
американского босса. Но почему Станчик стал
так откровенен? Видимо, после своего
поражения он почувствовал, что подходит конец
его спортивной карьере, что Гофман в лучшем
случае предоставит ему возможность продавать
штанги в одном из семнадцати магазинов
йоркской компании атлетического инвентаря.
Я на мгновение представил себя на месте
Станчика, и на душе у меня стало тяжело: рядом
со мной сидел американский парень, отдавший
лучшие годы жизни делу прославления белковых
концентратов, минеральных пилюль и снарядов
для развития мышц. Станчик был слугой воротил
спортивного бизнеса. Он закончил своё дело и
выходил в тираж. Чего же ему было волноваться
за судьбы своей команды?
А на помосте в это время уже соревновались
тяжеловесы. Молодой взволнованный Бредфорд
вышел для первой попытки поднять в
жиме 135 кг. Негр довольно легко одолел этот
вес. Вслед за ним 140 кг поднял Дэвис.
На штангу установили 150 кг. В борьбу
включился аргентинец Сельветти. Дэвис также
использовал свою вторую попытку.
На штангу поставили 155 кг. На помост вышел
Хэпбурн. В его фигуре поражало странное
несоответствие мощного квадратного торса и
тонких ног. Одна нога была плотно забинтована.
Мы уже знали, что Хэпбурн повредил её в
детстве.
В движениях канадца чувствовалась огромная мощь.
Он легко поднял штангу на грудь, и мышцы его
необъятных рук выжали штангу. Вспыхнули две
белые лампочки и одна красная.
Но Боб Гофман замахал руками и бросился к
судейскому столу, что-то горячо
доказывая. Его шея налилась кровью. В зале
послышался возмущённый ропот. Судьи растерянно
переглядывались, а Хэпбурн стоял на помосте и,
видимо, не мог понять, что происходит. Главный
судья посовещался со своими помощниками и,
поднявшись, объявил: "Вес не засчитан".
Ропот зрительного зала перешёл в оглушительный
гул, и Хэпбурн, улыбаясь, прикрыл свои уши.
Мы знали, что Боб Гофман теперь не будет
стесняться — слишком многое было поставлено на
карту.
На помост вышел Дэвис и в последней попытке взял
вес. Сельветти во второй попытке тоже поднял 155 кг.
А Хэпбурн всё не выходил. Он появился на помосте
только тогда, когда на штангу установили 165 кг,
и поднял её с такой лёгкостью, словно на неё были
надеты не стальные, а деревянные диски.
Ответ канадского атлета Бобу Гофману зрители
встретили овацией. Теперь уже все участники
закончили жим. Только у Хэпбурна осталась одна
попытка. И канадец попросил прибавить ещё 2,5 кг.
В зале стало так тихо, что с улицы донёсся гул
толпы, собравшейся у входа и ждавшей там
информации о результатах последнего решающего
дня. На штанге стоял вес нового мирового
рекорда, и Даг Хэпбурн легко, без видимых
усилий, поднял эту штангу.
Овация зала стала ещё громче. Она не прекращалась
ни на мгновенье всё то время, которое
потребовалось для того, чтобы взвесить атлета
и проверить вес штанги. Её действительный вес
оказался ещё больше — 168,5 кг. Это
феноменальный результат был грозным
предзнаменованием для американцев. Уже после
первого движения Хэпбурн обогнал Дэвиса
на 12,5 кг, а Сельветти обогнал Бредфорда
на 20 кг (Бредфорд
поднял 140 кг, а Сельветти — 160 кг).
"Ну, теперь аргентинцу несдобровать, — подумал я,
— теперь ему придётся иметь дело с Гофманом."
Первыми выполнять рывок стали Хэпбурн и Сельветти.
Они оба подняли по 125 кг. Затем канадец
взял 130 кг. На штангу прибавили
ещё 2,5 кг, и в борьбу вступил
Бредфорд. Он одолел этот вес. А когда ему на
смену вышел Хумберто Сельветти, в борьбу вступил
Боб Гофман. Аргентинец дважды поднимал штангу,
и дважды Гофман бросался к столу судейской
коллегии, что-то крича во весь
голос и размахивая руками. Две попытки Сельветти
не были засчитаны.
Этот эпизод настолько обострил обстановку в
зале, что теперь гул голосов уже не прекращался
ни на мгновение. Из зала всё чаще доносилось:
"Янки, уходите домой!", "Янки, назад!" Вся
дальнейшая борьба шла под эти негодующие крики.
Было больно смотреть на Дэвиса и Бредфорда,
выходивших под эти крики на помост. Дэвис был
бледен, и его чёрные усики ещё больше оттеняли
светло-кофейный цвет его лица. Бредфорд между
попытками кутался в одеяло, словно стараясь
укрыться от негодующих криков зала.
На штангу поставили 135 кг и на помост вышел
Дэвис. Попытку ему не засчитали, а Хэпбурн
безошибочно использовал свой третий подход. На
второй попытке рывок удался и Дэвису. На штангу
прибавили ещё два с половиной килограмма.
Бредфорд приложил отчаянные усилия, чтобы
ликвидировать просвет, образовавшийся между ним
и Сельветти, и взял вес.
На штангу установили 140 кг. Бредфорд попытался
ещё больше приблизиться к аргентинцу. На сей
раз его попытка оказалась безуспешной,
однако 12,5 кг молодой негр всё же отыграл
— правда, не без помощи своего босса.
Теперь одна попытка осталась только у Дэвиса. Он
потребовал поставить на штангу ещё 2,5 кг и
сорвался так же, как и его товарищ по команде.
Об этом убедительно свидетельствовали две красные
лампочки, вспыхнувшие на судейских пультах. И тут
же с места сорвался Гофман. Он опять устремился к
столу жюри, но из зала послышался такой
оглушительный свист, что президент международной
федерации Нюберг, в свою очередь вскочив с места,
жестами показал Гофману, чтобы тот не приближался.
Итак, Дэвису не удалось догнать канадца и после
второго движения. Хэпбурн уверенно двигался к
победе. Он начал толчок первым со 150 кг и взял
этот вес. Со 160 кг в борьбу включился
Сельветти — и тоже удачно.
На штангу поставили 165 кг, а Дэвис и Бредфорд всё
ещё не выходили на помост. Это было понятно: они
берегли попытки, они стремились догнать своих
противников на предельных весах. Это должно было
потребовать от двух негров огромного напряжения —
но что до того было Бобу Гофману: ведь это не
Дэвис и Бредфорд, а их босс распоряжается
попытками своих атлетов...
Даг Хэпбурн, слегка прихрамывая, направился к
помосту. Его лицо было по-прежнему
невозмутимым, он словно о чём-то задумался, и
никакие страсти, бушевавшие в зале, не могли
вывести его из равновесия. Этот удивительный человек
будто не видел того, что происходило вокруг. Он не
замечал Гофмана, ёрзавшего и подпрыгивавшего на своём
месте, готового в любой момент к очередному
броску. Хэпбурн не обращал внимания на фотографов,
обстреливавших со всех сторон его могучую фигуру,
слепивших его своими вспышками.
Даг просто занимался делом, к которому готовился
долгие восемь лет. Даг методично оправдывал
деньги, полученные им по подписному листу,
пущенному по всей Канаде. Даг попытался
толкнуть 165 кг, но повреждённая нога не давала
ему выполнить полноценные "ножницы". Да и вообще
движения Хэпбурна были какими-то
скованными. Он не смог глубоко уйти под штангу,
и она с грохотом упала на помост.
Снова наступила очередь Сельветти, и его удачную
попытку зрители встретили горячими аплодисментами.
Хэпбурна вызвали к 165 кг на последнюю попытку.
Если он не взял бы этот вес, то его победа
оказалась бы под большой угрозой. На мгновение зал
затих. Канадец не торопясь, словно взвешивая
каждое своё движение, наклонился к грифу, и по
рядам пронеслись сначала вздох облегчения, а
затем счастливый смех, возгласы и аплодисменты.
Куда же подевалась невозмутимость шведов, о
которой мы столько слышали? Но радость, охватившая
зал, тут же сменилась новым приступом ярости.
Дело в том, что Гофман снова стал подниматься с
места — но, услышав оглушительный свист и топот
сотен ног, тут же сел обратно. Это удивительно, но
Гофман был сломлен, Гофман сдался. Его заставили
сдаться сотни простых людей, включившихся в борьбу,
вставших на защиту честности и справедливости.
Третью попытку Хэпбурну засчитали.
Итак, канадец закончил соревнование. Можно было
подвести итоги. Я увидел, как многие зрители
лихорадочно складывали на листках бумаги, на
обложках программ три числа — 167,5 кг,
135 кг и 165 кг.
Выходило 467,5 кг.
А в это время в борьбу вступили два американских
атлета. На штангу поставили 167,5 кг.
На помост вышел Дэвис и взял вес. Свою последнюю попытку
попытался использовать Сельветти, но неудачно.
Теперь аргентинец закончил борьбу, подняв в сумме
трёх движений 450 кг и обеспечив
себе третье место.
К штанге вышел Бредфорд. Его движения потеряли
упругость и уверенность. Чувствовалось, что
молодой негр потрясён, подавлен. И ещё до того,
как он попытался взять штангу на грудь, мне стало
ясно — попытка сорвалась.
Бредфорд вышел к весу во второй раз — и его снова
постигла неудача. Для третьей попытки он
заказал 172,5 кг. Это было безумием. Но таков,
видимо, оказался приказ Гофмана. Только этот вес
мог позволить Бредфорду догнать Сельветти.
На молодого атлета было больно смотреть. В каждом
его движении чувствовалась обречённость, почти
ужас. Он знал, что не сможет поднять штангу, но
должен был поднять её. Ибо этого требовал босс.
И когда огромный вес вывалился из ослабевших рук
Бредфорда, он, поникший, спустился с помоста и,
сев на ступеньку, застыл в скорбной позе,
обхватив свою курчавую голову руками.
Я подошёл к Бредфорду, положил ему руку на плечо,
пытаясь хоть этим жестом утешить американца. На
меня посмотрели снизу два больших чёрных глаза,
до краёв налитые слезами. Потом Бредфорд своим
глухим, глубоким басом произнёс:
— Теперь босс... — и закончил фразу красноречивым
жестом: опустил большой палец к полу.
Чем я мог утешить Джеймса Бредфорда? Где было
найти для этого слова?
А в это время Дэвис делал последние отчаянные
усилия для того, чтобы догнать Хэпбурна. Он
пропустил вес 172,5 кг. Он пропустил следующий
вес — 175 кг — и вышел на
помост, когда на штангу поставили 177,5 кг.
Только подняв этот огромный вес, Дэвис мог догнать
Хэпбурна. Два раза замечательный атлет, не раз
завоёвывавший победы на крупнейших международных
соревнованиях, пытался поднять штангу — и
оба раза безуспешно.


Я увидел Джона Дэвиса в тот момент, когда,
окончательно примирившись со своим поражением,
он спустился с помоста и, усталый, осунувшийся,
принимал поздравление Боба Гофмана. Да, у Гофмана
хватило выдержки для того, чтобы подойти и пожать
руку человеку, который столько лет прославлял
силу американской нации... и качество изделий
"Барбелл компани". Но тут же, отойдя от Дэвиса,
Гофман стал показывать всем телеграмму от
Терпака, в которой сообщалось, что молодой
выдающийся атлет тяжёлого веса, швед по
происхождению, Андерсен добился новых успехов.
Гофман носился с телеграммой и говорил всем:
"Мы ошиблись, что взяли в Стокгольм Дэвиса..."
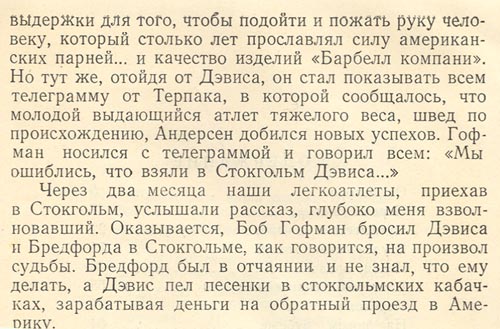
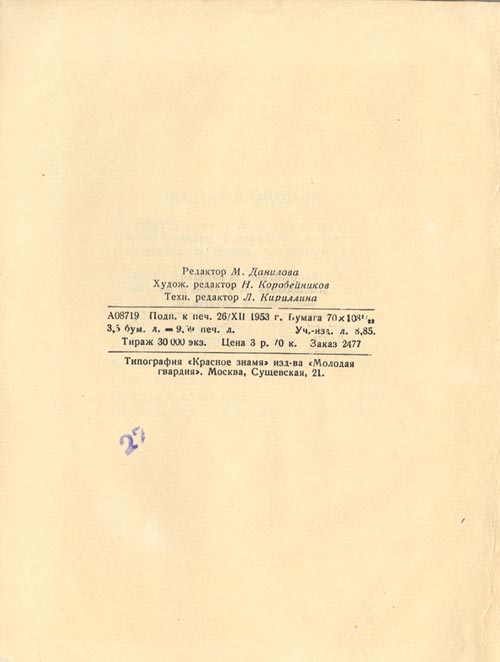
Когда через два месяца наши легкоатлеты приехали
в Стокгольм, то услышали рассказ, который глубоко
меня взволновал. Оказывается, Боб Гофман бросил
Дэвиса и Бредфорда в Стокгольме на произвол
судьбы. Бредфорд был в отчаянии и не знал, что
ему делать, а Дэвис исполнял песенки в
стокгольмских кабачках, зарабатывая деньги на
обратный проезд в Америку.
На следующее утро после окончания соревнований
советская команда получила хрустальную вазу — приз
командного первенства. Дружной и весёлой гурьбой
мы вышли на освещённые солнцем улицы Стокгольма.
Аркадий Воробьёв бережно нёс в руках хрустальную
вазу, а все остальные шли за ним, переговариваясь
на ходу.
— Ну что же, ребята, — сказал Николай Иванович
Шатов. — Дело завершено. Надо снова браться за
работу.
Да, так думал каждый из нас. Победа была достигнута,
большая и почётная победа, — но впереди нас ждали
новые усилия, новые поиски. Впереди нас ждала новая
борьба, и мы, уверенные в своих силах, шли ей
навстречу.
1
Судя по всему, это какие-то нехорошие люди. Вот
что было напечатано о них в газете "Правда"
16 августа 1951 года.
Гнусная провокация
Берлин, 15 августа (соб. корр. "Правды").
Сегодня вечером по Берлину разнеслась весть
о гнусной провокации, учинённой
западноберлинскими властями в отношении
германских юношей и девушек — участников
Фестиваля.
В последние дни бургомистр Берлина
шумахеровец Рейтер и его сообщники усиленно
заманивали в западные секторы участников
Фестиваля, разглагольствуя о свободе,
якобы существующей в Западном Берлине. Как
сообщает агентство АДН, сегодня несколько
тысяч молодых немцев направилось в Западный
Берлин, чтобы установить дружеский контакт
с тамошним населением и рассказать ему о
целях Всемирного Фестиваля молодёжи и о
целях народного опроса о ремилитаризации.
Во многих районах Западного Берлина и на
границах секторов состоялись беседы и
людные митинги.
Штуммовская полиция зверски напала на
участников этих митингов. Полицейские
были вооружены пистолетами и резиновыми
дубинками. Полиция также пустила в ход
брандспойты и танки, а в некоторых
местах на крышах были установлены
пулемёты.
По предварительным сведениям, поступившим
вечером, нападению западноберлинской
полиции подверглись 413 молодых людей,
часть из них тяжело ранена...

2
Вот, оказывается, с каких ещё времён пошло это
заблуждение — мол, мышцы у "мистеров Америк"
"дутые". На самом деле мышцы никогда не бывают
"пустыми", они бывают лишь не привыкшими к той
или иной конкретной нагрузке.
Кроме того, мнение о Гофмане как об очень плохом
человеке в связи с большой коммерческой составляющей
в его деятельности — неправильно. Увы, у Гофмана
просто не было других источников финансирования
спорта, кроме его рекламы.

3
А вот это, похоже, отсебятина реального
автора книги "Путь штангиста" (В.Викторова):
командный зачёт всегда был неофициальным, хотя
победа в нём — очень почётной.

4
На самом деле не на горе Олимп, а на
месте древнего города Олимпия.

5
Напоминаю, что формальный автор этой книги
вовсе не "Тимофей", а Трофим Ломакин.

6
Забавное сочетание: "объятие русского и
негра". Это очень похоже на широко известное
выражение Жириновского, наполовину еврея:
"я сын русской и юриста". Надо было, конечно,
написать "объятие русского и американца", а
ещё лучше — "объятие советского человека и
американца".

7
Кстати, именно в Остраве в 1987 году
были подняты одни из самых тяжёлых в истории
штанг — 216 кг в рывке
и 265,5 кг в толчке.
А 266 кг А.Курлович
пару секунд держал над головой на выпрямленных
руках, но, к сожалению, двигался в тот момент
по помосту.

8
Боб Гофман иногда действительно здорово
жульничал. Вот цитата из воспоминаний Евгения
Лопатина, принимавшего участие в олимпийских
соревнованиях 1952 года.
"...В личном зачёте я занял второе место после
Томми Коно, которого, не боюсь уже об этом
упоминать, на взвешивании не было, там судьям
подсунули какого-то совершенно постороннего
худого японца.
Я тогда совсем недавно перешёл в лёгкий вес и
был в нём недовеском, имел только 66 кг.
Я, как всегда, взвешивался в конце отведённого
времени, за пять минут до окончания процедуры,
а так называемый "Коно" взвесился только после
меня и оказался ещё легче. А когда настоящий
Томми Коно вышел на разминку, то оказалось, что
это человек с массивными мышцами ног и намного
выше меня и шире в плечах. Все очень удивились
такому "легковесу", а выводивший меня Трофим
Ломакин и другие ребята подтвердили, что на
взвешивании вместо Коно был другой человек.
Как наши тренеры и судьи это недосмотрели,
остаётся для меня загадкой.
От команды Боба Гофмана этого можно было ожидать,
он бизнесмен и мог пойти на всё ради своих
"мальчиков", которые были живой рекламой его
спортивных товаров.
Мои слова о мошенничестве при взвешивании
подтверждает следующий факт. В то время сразу после
установления мирового рекорда атлета и штангу
взвешивали повторно. Но когда Коно установил
рекорд в рывке — 117,5 кг —
и его тут же пригласили на весы, то вся
американская команда замахала руками в знак
того, что им рекорд не нужен и на взвешивание
Томми не пойдёт."
Правда, в справочнике Аптекаря результат Коно в
рывке как мировой рекорд всё же почему-то
зафиксирован. Но справочник Аптекаря не во всём
соответствует официальным данным — например, в
нём сильно отличается от официальной нумерация
чемпионатов мира и Европы.

 
[на главную страницу]
Архив переписки
Форум
|